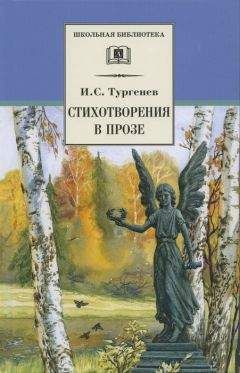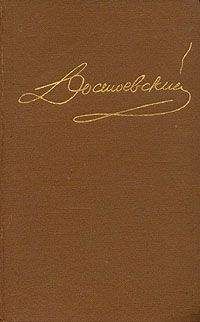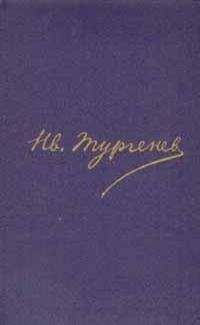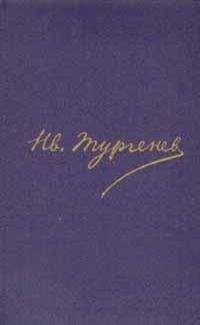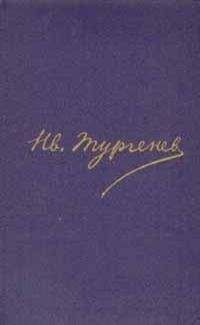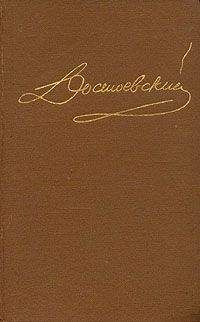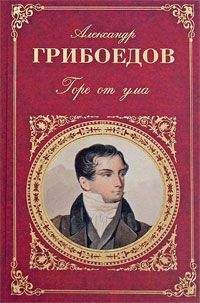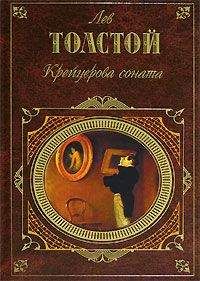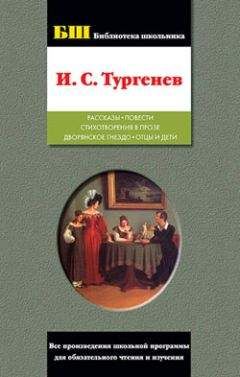Иван Тургенев - Том 1. Стихотворения, статьи, наброски 1834-1849
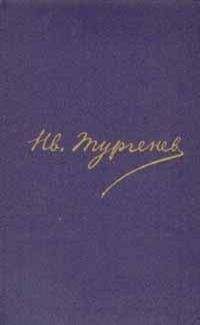
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Том 1. Стихотворения, статьи, наброски 1834-1849"
Описание и краткое содержание "Том 1. Стихотворения, статьи, наброски 1834-1849" читать бесплатно онлайн.
В первый том вошли стихотворения, поэмы, статьи и рецензии, прозаические наброски написанные И.С. Тургеневым в 1834–1849 гг.
Из подробного обзора драмы г. Гедеонова читатель может усмотреть, справедливо ли наше мнение об этом произведении. Повторяем: образованному человеку написать такую драму очень легко; но qu’est ce que cela prouve?[41] как говаривал д’Аламбер. Обогатила ли она нашу душу хотя одним живым и теплым словом, познакомила ли она нас с новым, небывалым воззрением талантливого человека на русскую жизнь, русское сердце, русскую старину? Легко представлять доблестных вождей, «соединение всего прекрасного и великого», коварных и честолюбивых женщин, призывающих «черных змей», влюбленных юношей Симеонов и проч.; легко заставить эти бездушные и бескровные лица говорить языком новейшей французской мелодрамы… ma per che?[42] как спрашивал граф Альмавива.* Мы восставали и восстаем против злоупотребления патриотических фраз, которые так и сыплются из уст героев наших исторических драм, — восставали и восстаем оттого, что желали бы найти в них белее истинного патриотизма, родного смысла, понимания народного быта, сочувствия к жизни предков… пожалуй, хоть и к народной гордыне… Это всякому дано ощущать, но не всякому дано выразить. Образцами такого рода драмы могут служить «Генрихи» и «Ричарды» Шекспира.* «Старая Англия» (Old England) живет и дышит в этих бессмертных произведениях… Кто нам доставит наслаждение поглядеть на нашу древнюю Русь? Неужели ни явится, наконец, талант, который возьмется хоть за этих двух рязанских дворян, Прокопа и Захара Ляпунова, и покажет нам, наконец, русских живых людей, — говорящих русским языком, а не слогом, — вместо тех странных существ, которые под именами историческими и вымышленными так давно и так безотрадно мелькают перед нашими глазами! Или в pendant малороссу Тарасу Бульбе нам все еще должно удовлетворяться русским Чичиковым?
Да, русская старина нам дорога́, дороже, чем думают иные. Мы стараемся понять ее ясно и просто; мы не превращаем ее в систему, не втягиваем в полемику; мы ее любим не фантастически вычурною, старческою любовью: мы изучаем ее в живой связи с действительностью, с нашим настоящим и нашим будущим, которое совсем не так оторвано от нашего прошедшего, как опять-таки думают иные.* Но повторяем: пусть истинный талант, — какие бы ни были его теоретические, исторические убеждения, — передаст нам нашу старину… за нашими рукоплесканиями дело не станет. Что же касается до «Смерти Ляпунова» г. Гедеонова, то вот наше последнее слово об этой драме; мы ее недаром сравнили в начале статьи с оперой: она — не что иное, как оперное либретто.
Генерал-поручик Паткуль. Трагедия в пяти действиях, и в стихах
СПб. Сочинение Нестора Кукольника
«Генерал-поручик Паткуль» назван автором, вероятно, не без причины трагедией, а не исторической драмой. Слово трагедия, хотя и утратило свой первобытный, древний смысл, всё же переносит читателя в ту идеальную сферу искусства, где действующие лица являются представителями великих вопросов, великих событий человечества, где совершается борьба между двумя коренными началами жизни и где, следовательно, трагик имеет право, для большего торжества истины, жертвовать фактами, внешней вероятностью[43]. В произведении г. Кукольника одно лицо — Паткуль наполняет всю сцену; пафос (мы бы весьма желали заменить это слово другим, в угоду тем насмешливым и острым людям, которым оно не нравится, но не находим другого), его пафос — величие Петра, возникающей Руси, нового царства, нового народа… Остальные лица — Август, Карл, любовницы и министры Августа служат только рамой картине. Нам кажется, что автор употребил во зло признанное за ним право изменять события: вся его трагедия исполнена анахронизмов, на которые мы укажем ниже; во всяком случае едва ли следовало заставить Паткуля (на стр. 84) говорить о Мольере, как о живом человеке, тридцать три года после его смерти.* Но прежде, чем приступим собственно к разбору произведения г. Кукольника, нам хочется поговорить о самом Паткуле как об историческом лице.*
Графиня Кёнигсмарк[44] говорит у г. Кукольника, что
Царя Петра великое лицо
Испуганной Европе представляет
Великий Паткуль… —
и хоть тогда, за три года до Полтавской битвы, Европа не могла «пугаться» Петра*, — но мысль противопоставить юную Русь старой Европе, показать нам представителя нашего великого царя среди блестящего и развратного двора Августа, эта мысль действительно могла бы служить основанием замечательного художественного произведения. Как ее выполнил г. Кукольник — увидим ниже, но теперь мы должны объявить, что в наших глазах Паткуль не заслуживает чести быть таким представителем Петра. Рожденный с сердцем горячим и благородным, с умом изворотливым и тонким, он в молодости своей смело восстал за права своей родины — и пострадал за свою смелость; осужденный за позорную казнь, если не раскаялся в своей опрометчивости, то по крайней мере всячески старался загладить ее дурные последствия, просил, писал умоляющие письма; раздраженный отказом, напрасным унижением, старался отмстить шведскому правительству сперва сочинениями, потом делами;[45] вел жизнь непостоянную и беспокойную, пока Флемминг его не завербовал в саксонскую службу; увлеченный величием Петра и, быть может, патриотическим желанием упрочить судьбы своего отечества, поступил в число служителей русского царя, не разрывая, впрочем, связи с саксонским двором; интриговал, запутывал и распутывал дела, беспрестанно путешествовал, вступал в сношения с правительствами австрийским, прусским, датским, а при восшествии юного Карла на престол хлопотал о помиловании. Паткуль принадлежал к числу тех странствующих второстепенных дипломатов, космополитических государственных людей, которыми тогда полна была Европа. Таков был известный Гёрц, такой был знаменитый Альберони, его современники; но Паткулю до них, «как до звезды небесной», далеко.* Страшная, мученическая смерть Паткуля возбудила к нему справедливое участие историков и, может быть, одна вывела из мрака, обессмертила его имя. Он предан бын Петру потому, что чувствовал его превосходство и предугадывал его могущество; служил ему усердно, горячо, но действовал единственно из личных выгод. Героем же он не был, хотя рисковал своей головой не раз — c’était le mauvais côté du métier[46], как говорят французы[47]. Читатели могут усомниться в справедливости нашего мнения; мы им представим доказательство неотразимое: собственные признанья Паткуля. Капеллан Гиельмского полка, при котором находился пленный Паткуль*, Лаврентий Гаген (Hagen), а не Гагар, как его называет г. Кукольник, оставил необыкновенно трогательное, поражающее своей истиной, описание последнего дня бедного Паткуля, которому он служил исповедником. Чтение этого документа, писанного на другой день казни, так сильно подействовало на нас, что мы решаемся поделиться нашими впечатлениями с читателем. Этот документ чрезвычайно интересен и в психологическом отношении: читая простой рассказ почтенного пастора, мы как будто присутствуем при предсмертных муках человека страстного, много пережившего, не слабого, но и не сильного, умного, но не необыкновенного, каким и был Паткуль… Такие люди ближе и понятнее нам, в них больше принимаешь участия. Вот этот рассказ (пастор говорит о себе в третьем лице).
…Полковник за тайну сказал пастору, что Паткуля казнят на следующий день, и поручил ему объявить это пленнику и приготовить несчастного к христианской кончине. Согласно с этим приказанием, капеллан отправился к Паткулю в третьем часу дня и нашел его лежащим на постеле. Поклонившись ему, пастор попросил его не пенять на него за нежданное посещение, тем более, что он (пастор) не сомневается в том, что в бедственном его положении ему необходимы увещания и утешения божественного слова. «Я очень рад, — отвечал Паткуль, — и очень вам благодарен; поверьте, г-н пастор, ни одно посещение но могло мне быть более приятным. Ну, — прибавил он, — что нового?» Капеллан отвечал, что он должен ему нечто сказать наедине; Паткуль встал и обратился к дежурному офицеру. Капеллан тоже подошел к офицеру и шёпотом сообщил ему приказание полковника. Как только тот вышел, Паткуль взял пастора за руку… «Ах, г-н пастор, — начал он чрезвычайно взолнованным голосом, — что вы такое мне хотите объявить?» — «Милостивый государь, — возразил пастор, — я прихожу к вам с поручением Иезекии, я должен вам сказать, что Исаия сказал этому царю (Исаии, XXXVIII, 1): „Устрой в дому твоем, умираеши бо ты и не будеши жив!“» — Услышав эти слова, Паткуль снова лег, и слезы потекли у него из глаз. Пастор начал его утешать и сказал ему, что так как он искусен во всех науках, то, вероятно, хорошо знаком и с главнейшей из всех наук, с религией, и что поэтому не следует ему принимать с такой горестью и с таким волнением известие, которого он притом должен был ожидать. «Ах, — сказал Паткуль, — я знаю старинную обязанность людей — умереть когда-нибудь; но эта смерть будет мне слишком тяжка». И он заплакал горько. Желая подкрепить его, пастор сказал ему, что еще неизвестно, какой род смерти ему назначен, но что она будет тем спасительнее для его души, чем страшнее для тела. Тогда Паткуль привстал на постели и, сложа руки, воскликнул: «Господи Иисусе, пошли мне праведную смерть». Потом, обратившись к стене, продолжал: «Ах! редукция[48] в Швеции и Ливонии была причиной всех моих бедствий». Капеллан попросил его оставить все земные помыслы, которые притом не могли не быть ему неприятными, и подумать о небе и вечности. «Увы, добрый господин пастор! — отвечал он, — моя душа — старая язва, наполненная гноем; позвольте мне сперва выкинуть вон всё, что у меня на сердце; всё это должно выйти вон. Эта редукция, которая разорила столько людей— продолжал он, — эта редукция причина всех моих несчастий. Покойный король ударил меня по плечу и сказал мне: «Паткуль, защищайте права вашей родины, как следует честному человеку». Что же мне было делать? Но злые люди всё перетолковали в дурную сторону. Да простит господь Гастёру. Он много содействовал к моему несчастию. Сначала он заманил меня, потом совсем ослепил, потом сделался моим врагом и стал меня преследовать. Скоро я увижу тебя, вместе с моими другими обвинителями, перед престолом вечного судии. Борггейм тоже много мне повредил; но он по крайней мере действовал по приказанию. Швеция! Швеция! не со смехом и плясками покинул я тебя, бог тому свидетель! Но куда мне было деться? Не мог же я спрятаться в могиле вместе с мертвыми. Я не хотел пойти в монастырь: моя религия мне этою не позволяет; у союзных держав я не был в безопасности. Мне говорят: ты пошел к нашим врагам, следовательно, ты причиною этой кровавой войны. Но какой ложный вывод! Я пришел к ним как несчастный изгнанник, не как злой советник и бунтовщик. Тогда никто не полагал меня способным к тому делу, и действительно, я к этому не был способен. Когда я прибыл в Саксонию, всё уже было сделано, и конвенция с Московией была подписана, прежде нежели я что-нибудь значил…»
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Том 1. Стихотворения, статьи, наброски 1834-1849"
Книги похожие на "Том 1. Стихотворения, статьи, наброски 1834-1849" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Иван Тургенев - Том 1. Стихотворения, статьи, наброски 1834-1849"
Отзывы читателей о книге "Том 1. Стихотворения, статьи, наброски 1834-1849", комментарии и мнения людей о произведении.