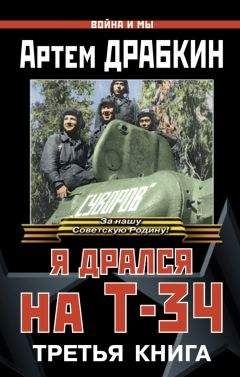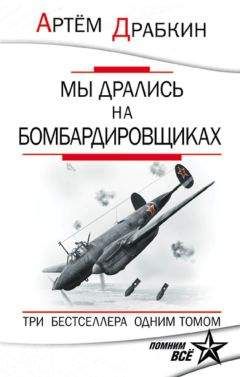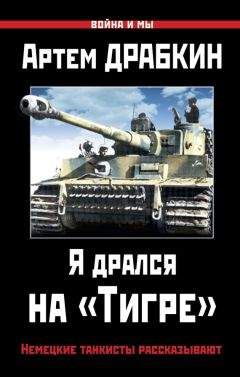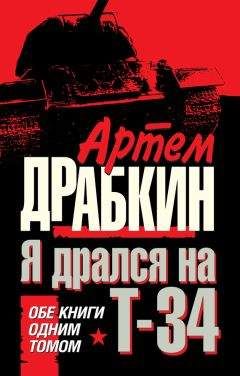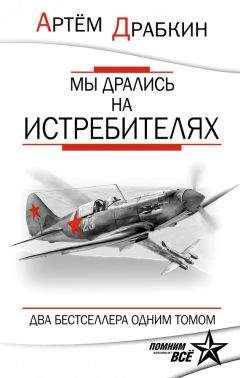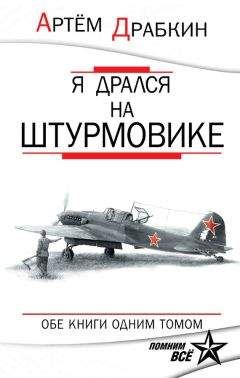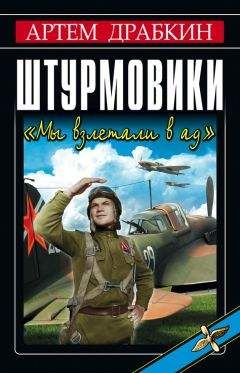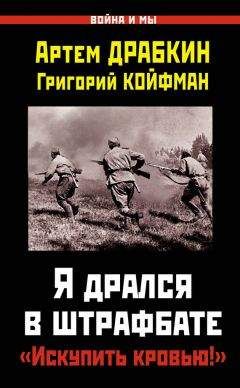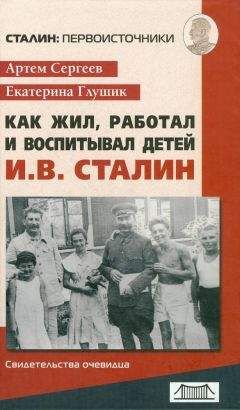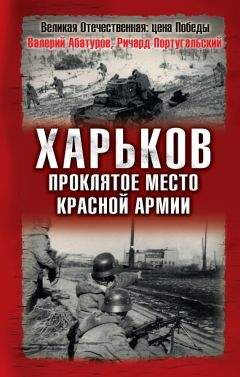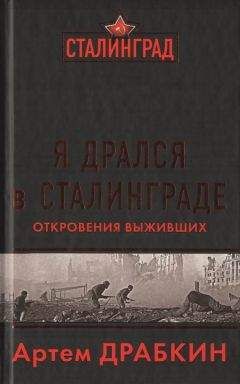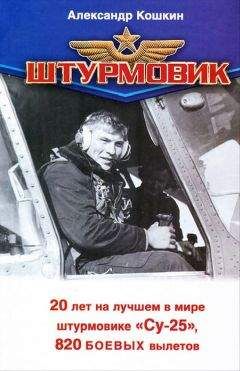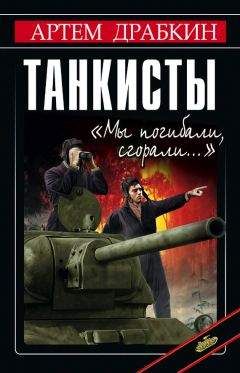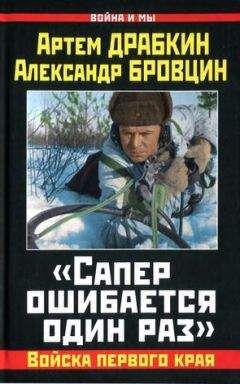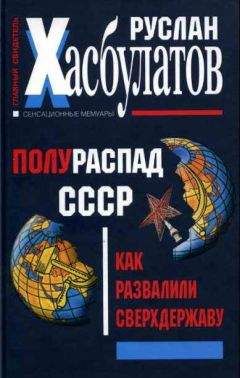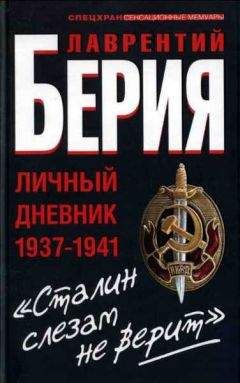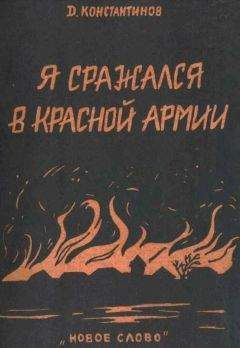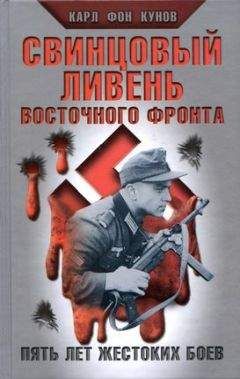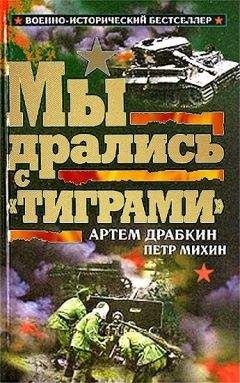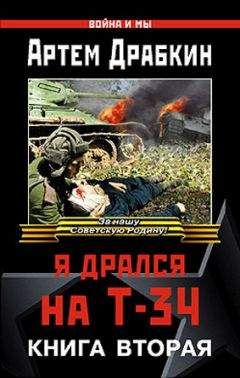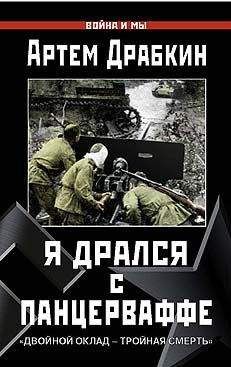Артем Драбкин - Я дрался на Ил-2. Книга Вторая
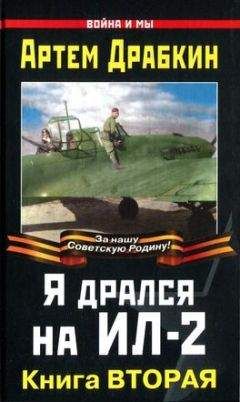
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Я дрался на Ил-2. Книга Вторая"
Описание и краткое содержание "Я дрался на Ил-2. Книга Вторая" читать бесплатно онлайн.
В СССР сложился настоящий культ штурмовика Ил-2, ставшего одним из главных символов Победы, — сам Сталин говорил, что «илы» нужны на фронте, «как хлеб, как воздух», а советская пропаганда величала их «летающими танками» и «черной смертью». Однако вопреки послевоенным мифам этот штурмовик нельзя считать «непревзойденным» или «неуязвимым» — его броня защищала лишь от пуль и осколков, а летные характеристики были вполне заурядными. Грозным оружием его делали те, кто воевал, умирал и побеждал на «илах», — пилоты и стрелки штурмовых авиаполков ВВС Красной Армии. Их живые голоса, их откровенные рассказы об увиденном и пережитом вы услышите в этой книге — долгожданном продолжении бестселлера «Я дрался на Ил-2».
Митрофанов Анатолий Иванович, командир 800 ШАП
Степанов Михаил Иудович, командир 144 ГШАП
— На самолетах с 37-мм пушкой не летали?
— Нет, 23-мм пушка тоже здорово била. Против танков в основном использовали ПТАБы.
— Командир полка летал?
— Митрофанов? Я не видел, чтобы он летал. После Митрофанова был Шишкин. Он старый был, лет 55. Какой летать? Потом Степанов с 1920 года. Награжден хорошо. Однажды дали задание полком, 24 самолета, лететь на Бреслау. Повел группу Степанов. Меня он поставил правым ведомым. Сказал: «Если меня собьют, моим заместителем будет Бегельдинов». Взлетели, все идут… Степанов говорит: «Бери команду на себя, у меня мотор барахлит». Бывает такое. Подлетаем. Связываюсь с землей: «Резеда, я Бегельдинов, принял команду на себя». — «Бегельдинов, бей за железной дорогой». — «Я, Бегельдинов, бью за железной дорогой». Вот только непонятно, что значит «за». Это же откуда посмотреть… С земли крикнули: «По своим заходишь! Бей за железной дорогой!» — «Понял!» Но все же немного запаниковал. По своим, понимаешь! 24 самолета! Мать тебе трижды пятнадцать! Вошли в атаку, проштурмовали. С земли говорят: «Атаковал, хорошо. Хозяин объявляет благодарность. Иди домой!»
— Вас хорошо награждали в полку?
— Да. Но я и больше всех вылетов сделал — 305. Меня посылали то в разведку, то на штурмовку. Безотказный Бегельдинов.
— Какое было настроение? Верили, что живым останетесь, или думали, что могут убить?
— Я не думал о том, что могут убить, но и планов на будущее не строил. Задача была уничтожать фашистов. Все! Думали только об этом. Так иногда… Пошивальников, когда смотрел на разрушенные деревни, говорил: «Эх, после войны долго восстанавливать будем…»
Мандраж возникал, когда в землянке начальника штаба звонил телефон. Он берет трубку: «Слушаю… да… деревня…», а в это время карандашом по карте ведет. Вот тут нервничаешь. Каждый переживает — война! Думаешь, если километров пятнадцать за линию фронта — это ерунда, а вот если тридцать — это уже думать надо, как идти. Далеко ходить не любили, что там говорить. Когда задание получил, тут уже некогда бояться. Думаешь, как, твою мать, дойти, найти цель, ее уничтожить и домой вернуться. Переживаешь только в момент получения задания.
— Какие цели считались самыми трудными?
— Аэродромы. Налет на аэродром — это самое трудное. 90 % — что ты погибнешь. 10 % — что останешься жить. Два раза ходил, два раза меня сбили. При налете на аэродром Основа под Харьковом 5 мая 1943 года меня сбили. В книжке этот эпизод описан. Упали в немецком тылу. Несколько дней пробирались к линии фронта. При переходе стрелок наступил на противопехотную мину и погиб. Еще бы надо немножко, метров сто… Там был большой арык, и в арыке были бы оба живы… Но где там, откуда мы знали, что по минному полю бежим? Я в арык — и вышел к Северному Донцу. Переплыл. Хорошо, что у меня остался комсомольский билет. А то сразу приехали из СМЕРШа, забрали мой пистолет. Оперировали в полевом госпитале.
— Под конец войны не захотелось выжить, делать поменьше вылетов?
— Такого разговора и быть не могло! Какое задание будет — такое и будет. От вылетов я не уклонялся!
— Когда тяжелее воевать — в начале, в 1943 году, или под конец, в 1945-м?
— Все зависит только от цели. Если она прикрыта, то и в 43-м, и в 45-м ее одинаково тяжело атаковать.
— Не было ощущения обреченности, ощущения, что следующий я?
— У меня не было. Бывали неудачи, но что поделать — война…
— Вы по своим не попадали?
— Нет. Не дай бог! Сразу накажут. Был у меня летчик Кочергин. Он в атаке отставал. А раз отставал, значит, мог сбросить раньше, по своим, но потом он стал хорошо летать.
— Вы курили?
— Все курили, конечно. Уже в Академии думаю, чего я дым глотаю? Нет, не буду курить. И с тех пор я не курю.
— 100 грамм после вылета давали?
— Ууу… Обязательно! И не сто грамм! За каждый вылет сто полагалось, а у меня меньше трех вылетов не было. Иногда было 4–5 вылетов. А один раз 6 вылетов! Каждый вылет 1 час 40 минут. Физически очень тяжело. А что делать?! Война. А, бывало, скажут: садись на другой аэродром. А там ни кушать, ничего нет. Голодный, черт возьми!
— В связи с такими нагрузками аппетит был?
— У меня не было. Вечером, когда отбой, тут и поешь, и 100 грамм выпьешь. Бывало, некоторые выпьют, плачут, семью вспоминают. Я-то молодой, а летчики были с 1918, 1919 годов.
Кацевман Петр Маркович
(интервью Григория Койфмана)
Я родился 1 мая 1923 года в местечке Калинковичи в Белоруссии. Отец был простым рабочим, малограмотным человеком, и всячески стремился дать троим своим сыновьям образование. В 1941 году закончил учебу в школе-десятилетке. Еще в апреле 1941 года мы, четверо друзей-одноклассников, пришли в райвоенкомат и попросили военкома направить нас в военные училища. Меня и моего товарища Гомона направили в летное училище, а двух других друзей, Шендеровича и Фиалковского, — в военно-медицинское училище. Прошел в Гомеле все нужные комиссии и был направлен на учебу в Школу летчиков ГВФ. Я был искренним патриотом своей страны, фанатично любил советскую власть и боготворил Сталина. И когда по всей стране, в печати и на собраниях постоянно призывали молодежь идти в военные училища, то подобный призыв не мог не найти отзыва в моем сердце. После того как немцы ввели войска в Румынию и Финляндию, нам было ясно, что война неизбежна, и хотелось встретить ее хорошо подготовленными бойцами и командирами. Мой старший брат Израиль, 1911 г. р., сельский учитель, был призван в армию в 1940 году и служил танкистом в Перемышле. Из его писем мы многое понимали, осознавая, к чему дело идет. Средний брат, Лазарь, 1917 г. р., тоже перед войной был на кадровой службе, в железнодорожных войсках в Барановичах, и когда незадолго до войны он приехал ко мне в летную школу, то прямо сказал, что скоро грянет серьезная беда, что все железные дороги забиты воинскими эшелонами, идущими к западной границе. Так что для меня начало войны не стало неожиданностью.
— Почему вместо обычного летного училища Вас зачислили в Авиационную школу гражданского воздушного флота?
— Это была только вывеска — «Школа ГВФ», маскировка, а на самом деле в ней готовили летчиков для Красной Армии. Незадолго до войны по стране были созданы примерно 100 таких школ со следующим личным составом — 150 курсантов в наборе. Весь набор был «местным», белорусским. 75 % курсантов были русские и белорусы, 25 % — евреи. Второго июня сорок первого года мы начали теоретические занятия в Школе ГВФ, расположенной в районе местечка Ново-Белицы Гомельской области. Нам выдали обмундирование ГВФ. Командовал этой школой летчик первого класса Алейников, ранее летавший по маршруту Москва — Берлин, а комиссаром школы был еврей Айзенштадт. Когда 15 июня 1941 г. курсантов собрали на политзанятия для ознакомления с заявлением ТАСС, опровергающим слухи о готовившемся нападении немцев на СССР и подтверждавшим соблюдение Германией условий Пакта о ненападении, то наш комиссар честно и открыто сказал: «Все это чушь! Война начнется уже в ближайшие дни, не сегодня, так завтра!»
— Как курсанты узнали о начале войны?
— Двадцать второго июня мы собирались поехать в Гомель, сделать свои первые курсантские фотографии в летной форме, но уже в пять часов утра нас подняли на ноги крики часового: «Подъем! Тревога! Всем собраться у палатки столовой!» И тут немцы стали бомбить мосты через Сож. На пятый день войны был получен приказ об эвакуации летной школы в Казахстан. Мы попали в Актюбинск. Сюда наши инструктора перегнали свои учебные По-2 из Ново-Белицы. Здесь нас объединили с Актюбинской авиашколой ГВФ, и здесь мы совершили свои первые полеты. Жили в казармах, и когда в октябре начались морозы, то начальство не знало что с нами делать — у курсантов-белорусов даже не было шинелей, и теплого обмундирования раздобыть для нас так и не смогли. Мы не могли выйти на улицу в тридцатиградусные морозы в одних летних кителях. Нас срочно привезли на железнодорожную станцию, погрузили в теплушки и отправили в «теплые края», в город Сырдарья Ташкентской области.
Летная книжка Кацевмана П. М.
— В Сырдарье было полегче?
— Намного, а главное теплее. Здесь нашу школу ГВФ № 121 влили в Ташкентскую объединенную школу № 51. Курсантов поселили в здании обычной школы, отлично кормили, по нормам ГВФ, на столах у курсантов-летчиков постоянно были колбаса и сыр. До мая 1942 года мы закончили первичную летную подготовку, каждый имел налет по 120 часов, и нас стали обучать на ночных бомбардировщиков. Но у нас не было штурманской подготовки. Наше моральное состояние было ужасным, полстраны под немцем, а мы… в глубоком тылу. Никто не знал, что произошло с нашими семьями. Родная Белоруссия под пятой оккупанта. Стоишь ночью на посту, вокруг — вой шакалов, и так на душе тоскливо становилось… Мы не принимали присяги, до сих пор не имели воинских званий. В июне 1942 года всех курсантов перебросили морем по Каспию, через Красноводск, на запад, и мы оказались в Армавире, где должны были пройти подготовку на летчиков-истребителей. 3 июля 1942 года нас официально зачислили в ряды Красной Армии. В Армавир согнали с разных мест свыше шести тысяч курсантов-летчиков, и командование ломало голову — куда нас девать. Здесь мы приняли военную присягу и впервые получили армейское обмундирование. Курсантов разбили на эскадрильи, которые разбросали по различным станицам. В учебных эскадрильях по две сотни курсантов. Занятия не начинались, не было матчасти. Но тут снова началось стремительное немецкое наступление, и был получен приказ на эвакуацию в Фергану. Пришлось снова проделать уже знакомый путь — Баку, переправа через Каспий, а потом эшелонами из Красноводска на Фергану. Поселили нас на территории бывших кавалерийских казарм, народу туча — больше шести тысяч, разместить всех негде, так мы спали в конюшнях в лошадиных кормушках. И снова — «восточная экзотика», вой шакалов, жара, скорпионы и фаланги. Кормить стали скудно. Свои котелки мы мыли в арыках, а там, сами знаете, какая вода, так началась эпидемия желтухи, а потом — повальная дизентерия. Нам все это надоело, и курсанты в массовом порядке подали рапорты с просьбой отправить на фронт в пехоту. Сразу удовлетворили эти просьбы первым 500 курсантам, их бросили в Сталинград, но вдруг «калитка захлопнулась», сверху, по указке московского начальства, запретили отправку курсантов на передовую. Нас снова разбили по отрядам. Я попал в 1-й авиаотряд, где на 200 человек курсантов приходилось всего 5 инструкторов. В Фергане стояли истребители И-15, И-16, «Чайки», но до марта 1943 года полетов не было, проводились только теоретические занятия. Не хватало горючего для учебных полетов. В летном парке не было самолетов моделей «Як», «МиГ» или «Ла», так чему нас могли тогда обучить? К нам приезжали фронтовые летчики, да и преподавателем теории полетов был раненый пилот, списанный с летной работы, и они честно, без утайки, рассказывали, что нас конкретно ожидает на фронте, через сколько вылетов нас собьют и как умеют воевать немецкие летчики. В феврале отобрали 400 курсантов, имевших опыт ночных полетов на По-2, и после напутствия начальника училища, сына героя Гражданской войны Пархоменко, всех отправили в Чебоксары, в авиационную школу военных пилотов № 14, для переучивания на ночные бомбардировщики По-2. Для меня эта учеба, как говорится, была уже «по второму кругу». Нам выдали шинели из байки, английские ботинки с обмотками, и в этом одеянии, с пилотками на головах мы доехали до Чебоксар, где стояли морозы и снег был по пояс. В Чебоксарах мы провели полгода, но здесь хоть летали, успели отработать все нужное для нашей будущей боевой деятельности, включая бомбометание. Кстати, во время обучения в Чебоксарах были свои «интересные нюансы». Нам запрещались любые контакты с местным населением, мол, вокруг сплошная трахома и бытовой сифилис. Кормили по 9-й норме, и когда наш аэродром как-то завалило снегом, то весь личный состав целую неделю питался только перловкой на воде. С тех пор я эту перловку просто возненавидел. В ноябре 1943 года мы получили назначения на 1-й Украинский фронт, в 998-й НБАП, базировавшийся на аэродроме Васильково под Киевом. Прибыли туда на своих самолетах, перегнали их с Казанского авиазавода. В полку нам сказали: «Вы нам не нужны, мы заявку на пополнение не посылали. Самолеты оставьте, а сами валите отсюда! У нас своих восемь „безлошадных“ летчиков». И отправляют нас назад, в тыл, в Москву, в резерв ВГК. В Москве нас разместили в общежитии ВВА имени Жуковского. Сходили в Большой театр, посмотрели музеи, погуляли с московскими девушками. Получаем новый приказ: «Отправляетесь в Арзамас в распределительный пункт. Там вы получите назначения во фронтовые части». Приезжаем в Арзамас, а там половина ребят из нашего чебоксарского выпуска «прохлаждается», их тоже турнули обратно в тыл, с «объяснением» — техники на всех нет! В Арзамасе находились многие сотни летчиков, «пилоты переменного состава», ждавшие «с моря погоды», счастливого случая попасть в действующую армию. Атмосфера соответствующая — с утра до вечера сплошная пьянка, преферанс, девки табунами, «дым коромыслом». Не жизнь, а тыловая «малина». Полетов не было, никаких теоретических занятий или другой подготовки — не проводилось. «Покупатели» с фронта приезжали только за летчиками-штурмовиками, а остальным прямо говорили: «На всех самолетов не хватает!» Надо сказать, что нам еще повезло — некоторые из наших «новобелицких курсантов», застрявшие в Фергане, были выпущены из училища только во второй половине 1944 года, и пока получали технику, пока переучивались и тренировались во фронтовых ЗАПах, многие успели только к «шапочному разбору», попали на фронт в конце войны, толком не повоевав. Мой друг Гомон вообще угодил на Дальний Восток и воевать начал летчиком-истребителем уже с американцами в Корее в 1950 году. В июне 1944 года приехали очередные «покупатели» с фронта, и мы, шесть человек товарищей, сказали им, что являемся штурмовиками по летной специальности. Нас без какой-либо проверки сразу отправили в Черкассы, в 1-й гвардейский штурмовой авиационный корпус (ШАК), в 9-ю гвардейскую штурмовую авиадивизию (ШАД) в 141-й гв. ШАП. И тут и выясняется, что на Ил-2 никто из нас раньше не летал… Времени учить нас летать на штурмовиках непосредственно в полку у пилотов-«стариков» не было, шли активные боевые действия, и нас отправили в запасной фронтовой полк в Кировоград.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Я дрался на Ил-2. Книга Вторая"
Книги похожие на "Я дрался на Ил-2. Книга Вторая" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Артем Драбкин - Я дрался на Ил-2. Книга Вторая"
Отзывы читателей о книге "Я дрался на Ил-2. Книга Вторая", комментарии и мнения людей о произведении.