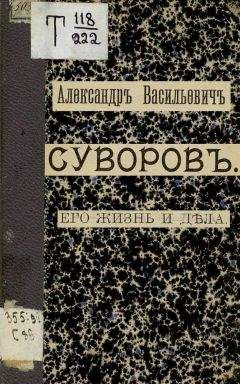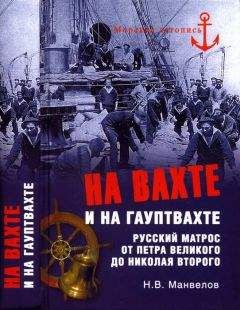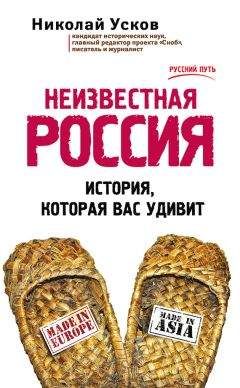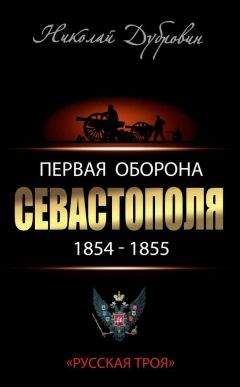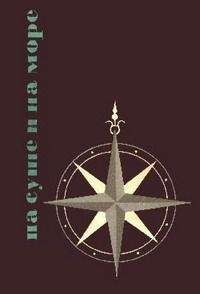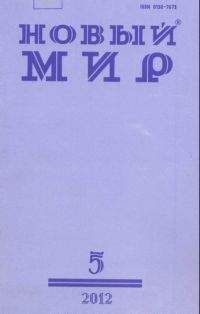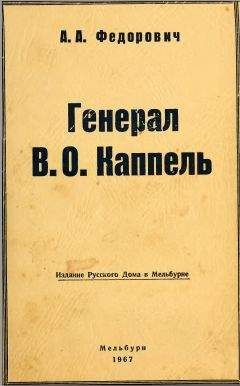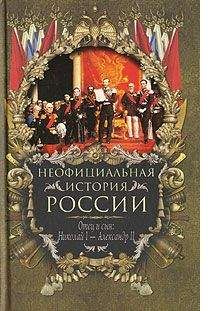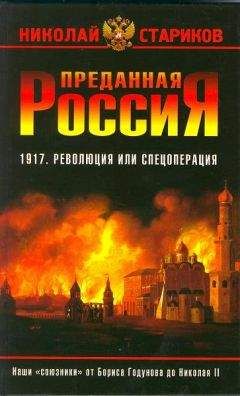Николай Дубровин - Наши мистики-сектанты. Александр Федорович Лабзин и его журнал "Сионский Вестник"
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Наши мистики-сектанты. Александр Федорович Лабзин и его журнал "Сионский Вестник""
Описание и краткое содержание "Наши мистики-сектанты. Александр Федорович Лабзин и его журнал "Сионский Вестник"" читать бесплатно онлайн.
Государь согласился с мнением министра народного просвещения, и мера, предложенная графом Разумовским, была принята с восторгом всем обществом. В «Русском Вестнике» появилась статья, в которой издатель его, С.Н.Глинка, писал, что наконец монарх и правительство услышали искреннейшее желание всех истинных сынов отечества истребить зло, которое быстрыми шагами приближало нас к уничтожению «народного духа» и всего того, чем природа отделила русских от других племен запада.
О, сколь монарх благополучен,
Кто знает россами владеть;
Он будет в свете славой звучен,
И всех сердца в руке иметь! [109]
Предпринимаемая правительством мера могла оказать свое полезное действие только в далеком будущем, и пристрастие взрослого поколения к иностранцам продолжалось во все царствование императора Александра I. Путаница в понятиях, целях и интересах общества была так велика, что в ней трудно было разобраться. Даже отечественная война, встряхнувшая все состояния, не в силах была помочь делу. Правда, что во время военных действий явилось было самосознание, достойное великого русского народа, но буря утихла, и поклонение всему иностранному возобновилось. В № 72 «Московских Ведомостей» 1822 г. было напечатано: «Егерь из Германии желает определиться егерем или в гувернеры. Спросить на Моросейке». Это объявление, не различающее детей от собак, возмутило юного М.П.Погодина, и он стал мечтать о составлении особого общества для гражданской войны против преобладания y нас французомании, а его товарищ и друг, Кубарев, был того мнения, что нам нужен Великий Петр, который одним ударом мог бы «очистить моральный наш воздух» [110]. Зло сделалось общим.
Лучшие люди в государстве преклонялись перед французами, и дети, составлявшие цвет русского юношества, по-прежнему вверялись пришельцам, не имевшим нравственных правил и стремившимся поколебать веру наших отцов. Прежде всего заботились об этом, конечно, иезуиты, успевшие приобрести к себе полное доверие. Для воспитания юношества, как мы видели, была устроена ими коллегия, а в петербургских гостиных появились аббаты Николи, Розавены, Гривели, Журданы, и во главе их встал представитель изгнанного короля сардинского, граф де-Местр. Своим умом и тактом он успел обратить на себя внимание и в короткое время занял видное место в петербургском обществе. Большой балагур и любезный собеседник, де-Местр был желанным гостем и ежедневным посетителем лучших столичных гостиных. Одаренный замечательным, хотя и парадоксальным умом, начитанный и веселый, он говорил увлекательно и сильно. «Мысли свои, — говорит Васильчиков [111], — вполне чуждые и веку и стране, в которой он жил, излагал он крайне оригинально. Самая чужеземность этих мыслей была по вкусу нашему обществу, а стойкость убеждений сильно действовала на кичливых слушателей, которых де-Местр с своей стороны полюбил за гостеприимство и благодушие. Успехи и влияние де-Местра в гостиных ими однако не ограничивались. Его стали зазывать в свои кабинеты люди государственные и с свойственным русским администраторам чистосердечием, не стесняясь, открывали ему государственные тайны, поверяли ему всю неурядицу внутреннего строя и с благодарностью принимали его советы».
Де-Местр скоро увидел, что верхние слои общества бессильны противународным и легкомысленным (frivole) воспитанием, и их не трудно будет увлечь в лоно римской церкви. Народ, думал де-Местр, последует примеру высшего общества, как некогда принял крещение по примеру бояр. И вот возникла пропаганда способом наиболее пригодным, т. е. через женщин. Знатные дамы с увлечением читали Массильона, Бурдалу и услужливыми аббатами приготовлялись к принятию католицизма [112]. В гостиной y г.Свечиной или Головиной часто слышалась беседа графа де-Местра. To он ловко опровергал неверие, то насмехался над русским духовенством и как бы наивно спрашивал, отчего его никогда не видно в русских салонах. В своих шутках граф заходил иногда так далеко, что православное крещение, через погружение ребенка, называл рыбьим (la baptême poissonique) [113]. Все его слушали и восторгались. Если бы де-Местр, — говорит Стурдза, — был Феннелом или Флери, то не имел бы успеха, но, со своим догматизмом, он шел как нельзя лучше и обращения в католичество были довольно часты. Голицыны, Протасовы, Головины, Куракина, Свечина и многие другие перешли в латинство. Адмирал Чичагов, по своим близким связям с иезуитами и особенно с де-Местром, питал надежду, что русская церковь в близком будущем присоединится к римской, и изо всех сил старался помочь иезуитам в этом смелом замысле. Великосветские дамы открыто выражали свои симпатии к католичеству и между иезуитами искали себе руководителей их совести [114]. «Среди великосветских праздников заканчивалось отпадение от православной веры, уже заранее отчужденных от родины, отступниц. На балах и раутах, — как свидетельствует Свечина, — прошептывали свои отречения и лепетали первую свою латинскую исповедь новопросвещенные овцы иезуитского стада. Это было ново, заманчиво, романтично и резко отличалось от безхитростных приемов родной веры» [115].
Полупросвещенная молодежь, воспитанная в незнании родного вероисповедания, проповедывала безбожие, клялась Вольтером и Дидеро и в лучшем случае была индифферентна к вопросам религии. Шестнадцатилетний молодой человек говорил издателю «Друга Юношества» М.Невзорову, что его религиозно-нравственный журнал годится только для стариков, «а старикам-де ныне не век; ибо ныне во всех состояниях блестят большею частью молодые». Одна девушка была уверена, что Невзоров принялся за свое издание потому только, что был несчастлив в любви. Были и такие, которые говорили: «Максим Невзоров, писатель вздоров» [116].
В конце прошлого и в начале нынешнего столетия было переведено с французского на русский много книг, распространявших пренебрежение к религии и отчасти к православной. Тогдашняя благопристойность требовала, чтобы в обществе не говорилось ничего о благочестии даже и в шутку [117]. Большинство бредило философами и, не понимая сути их учения, видело в нем одно отрицание религии. Но с одним отрицанием человеку жить трудно, и он инстинктивно ищет опоры, нравственной поддержки, которые и находит в одной только религии; она всегда с нами, всегда примиряет нас с неравенством судьбы, с несправедливостями, часто встречаемыми в жизни, и даже раскаявшийся преступник только в ней одной находит свой покой и утешение. История прошлой жизни указывает, что неверие всегда влекло за собою беспорядки, тяжелые для общества, и часто ниспровергало могущественные царства. Напротив, дни благоденствия народов были вместе с тем и днями торжества религии. Вот отчего многие из наших отступников инстинктивно ощущали внутреннюю потребность так или иначе удовлетворить религиозному чувству и в этом отношении легко поддавались чужому влиянию. Россия представляла тогда картипу самого разнообразного религиозного движения, где представители разных исповеданий спорили за преобладание и приобретение большего числа последователей.
Конечно, несправедливо было бы обвинять поголовно все образованное русское общество того времени в безверии и отступничестве. Были и тогда люди истинно религиозные, полезные семье и преданные отечеству, но они жили особняком, отдельной жизнью, не сходились с атеистами и с подражателями модных идей [118]. Они строго исполняли завет родителей — чтить и хранить православную веру, т. е. ходить аккуратно в церковь, исполнять ее уставы и обряды, не есть в посты скоромной пищи и проч. Скованные одной наружной обрядностью церкви и лишенные возможности познакомиться с внутренним содержанием религии, они нашли его в мистицизме и увлеклись его учением. «История мистики показывает, что возникновение последней всегда было вызвано тем состоянием, в каком находилась господствующая церковь. Мистика развивалась обыкновенно как противодействие формализму и рассудочной теологии. Дух верующего, стесненный внешностью культа и оцепенелой догматикой, стремился освободиться от того и другого, и находил свое освобождение в чистой, внутренней, духовной религиозности: он погружался в мистическое созерцание [119].
Одно наше духовенство могло поставить это созерцание в рамки православия, но, как увидим, оно отличалось бездеятельностью и полной терпимостью ко всем учениям [120]. Терпимость благоразумна, но если она переходит в полное равнодушие, то служит доказательством презрения к собственному исповеданию, всегда гибельного для власти и общества.
«Правда, — писал В.Н.Каразин [121], — есть y нас церкви, так как есть театры, есть и духовенство, яко особливый класс людей. Но все это, признаемся, держится y нас не иначе, как старинный обычай из уважения к предрассудкам черни, — c'est toujours un frein pour le peuple — говорят министры, я разумею европейские вообще, ни мало не указывая ни на чье лицо в России...
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Наши мистики-сектанты. Александр Федорович Лабзин и его журнал "Сионский Вестник""
Книги похожие на "Наши мистики-сектанты. Александр Федорович Лабзин и его журнал "Сионский Вестник"" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Николай Дубровин - Наши мистики-сектанты. Александр Федорович Лабзин и его журнал "Сионский Вестник""
Отзывы читателей о книге "Наши мистики-сектанты. Александр Федорович Лабзин и его журнал "Сионский Вестник"", комментарии и мнения людей о произведении.