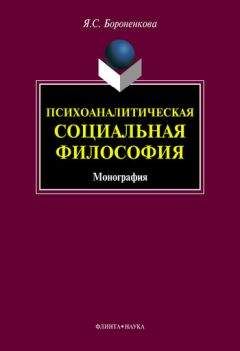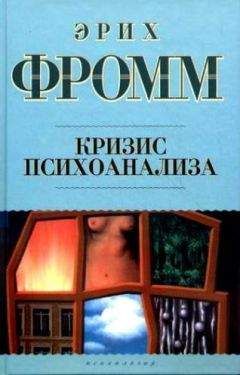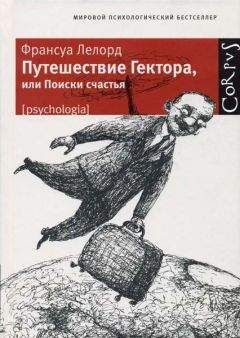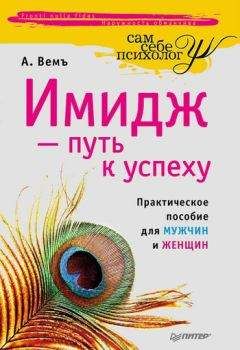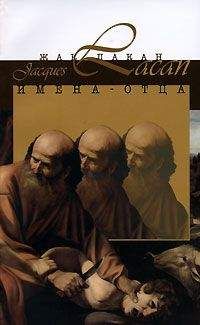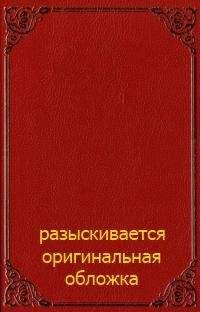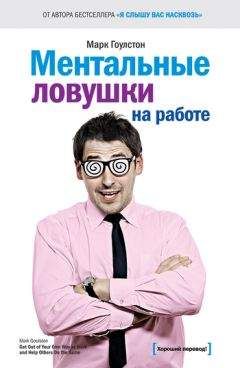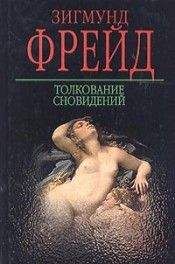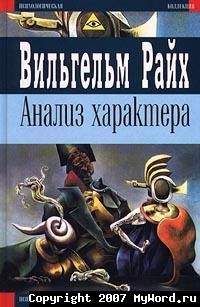Жак Лакан - Этика психоанализа(1959-60)
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Этика психоанализа(1959-60)"
Описание и краткое содержание "Этика психоанализа(1959-60)" читать бесплатно онлайн.
Жак Лакан, скончавшийся в Париже 9 сентября 1981 года, планировал продолжить работу над полным изданием «Семинара» согласно принципам, изложенным в примечании и послесловии к первому из опубликованных его томов (Четыре основные понятия психоанализа, Seuil, 1973) и вновь сформулированным мною в недавно опубликованной работе Беседы о Семинаре с Франсуа Ансерметом, (Navarin, 1985).
В работе над книгой VII принимали участие г-жа Жюдит Миллер, выверявшая ссылки на греческие тексты, в частности, на Софокла; г-н Франц Кальтенбек, работавший над цитатами из немецких, премущественно фрейдовских, источников; профессор Квакельбен из Гентского университета и профессор Рей-Флод из университета Монпелье, предоставившие в мое распоряжение, соответственно, Совершенный брак Ван де Вельде и воспроизведенный в настоящей работе текст Арно Даниеля; г-н Франсуа Валь из издательства Seuil, проделавший редакторскую работу над рукописью; д-ра Даниель Сильвестр и Патрик Валлас, г-жа Элизабет Дуано и г-жа Анна Старицки, трудившиеся над корректурой. Всем им я приношу здесь свою благодарность. Благодарю заранее и читателя, который пожелает внести свой вклад в дальнейшую работу над текстом, которая ведется постоянно, адресовав мне через редактора свои замечания.
Я попытаюсь познакомить вас с этим текстом поближе, чтобы вы лучше оценили лежащую на нем печать мастерства.
1
Итак, мы начали в прошлый раз с того, что в пьесе есть сама Антигона, есть происходящие события и есть, наконец, хор.
С другой стороны, говоря о природе трагедии, я привел вам заключение фразы Аристотеля о страхе и жалости, посредством которых осуществляется очищение от этого рода страстей — тот знаменитый катарсис, подлинный смысл которого мы попытаемся, наконец, понять. Гёте, как ни странно, считал, что страх и жалость определяют само действии трагедии, которое, якобы, представляет нам модель равновесия между ними. Но это, безусловно, совсем не то, что имел в виду Аристотель, мысль которого так и остается для нас за семью печатями — остается волей судьбы, оставившей нам, в связи с утратой некоторых его текстов, так мало подсказок.
Но я сразу же сделаю одно замечание. Судя по первому впечатлению, Креонт и Антигона — имейте в виду, что я говорю о первом впечатлении — похоже, не знают ни страха, ни жалости. Если вы в этом сомневаетесь, значит, вы просто не прочли Антигону, и поскольку мы читаем ее вместе, я думаю, что помогу вам осязательно убедиться в этом.
При дальнейшем чтении, однако, уже не похоже, а совершенно точно, что по крайней мере один из протагонистов до самого конца ни страха, ни жалости не испытывает — это Антигона. Именно поэтому она и является среди всех прочих подлинной героиней. В то время, как Креонт в конце поддается страху, и это является если не причиной его гибели, то по крайней мере ее предвестием.
Начнем теперь с начала.
Первое слово в пьесе принадлежит отнюдь не Креонту. По замыслу Софокла, она открывается сценой, где Антигона в разговоре с Исменой сразу же посвящает нас в свой замысел и его причины. Креонт отсутствует, даже в качестве партнера, и появляется лишь вторым чередом. Тем не менее, в нашем разборе пьесы ему принадлежит немаловажная роль.
Креонт призван проиллюстрировать функцию, принадлежащую, как мы увидим, самой структуре трагической этики. Это функция психоанализа — он хочет добра. В этом, в конце концов, заключается его роль. Вождь — это тот, кто ведет сообщество за собой. Он занимает свое место во имя блага для всех.
В чем его вина? Аристотель говорит об этом, используя термин, который представляется ему для определения истоков трагического действия основным — αμαρτία. Его не очень просто перевести. Заблуждение, ошибка, погрешение — интерпретируя же его в этическом преломлении: ошибка, пли погрешность, в суждении. Все это, возможно, не так уж просто.
Как я вам в последний раз уже говорил, больше столетия отделяет эпоху создания великой трагедии от первого толкования, которого удостоила ее философия. Минерва не пробуждается, как говорил уже Гегель, кроме как в сумерках. В справедливости этого я лично не так уж уверен, но этот часто цитируемый афоризм напомнит нам о существовании временной дистанции между учением, заключенным в трагических ритуалах как таковых, и последующей интерпретацией этих учений в области этики, выступающей у Аристотеля как наука счастья.
И все же мы можем кое-какие наблюдения сделать. Мне не составило бы труда найти слово αμαρτία в других трагедиях Софокла — оно там имеется, это бесспорно. Слова αμαρτάνζιν и αμαρτήματα встречаются в речи самого Креонта, когда удары судьбы, наконец, сражают его. Но αμαρτία характеризует не истинную героиню, но Креонта, героя уровнем ниже.
Погрешность его суждения — которую мы можем здесь разглядеть ближе, чем это когда-либо удавалось сделать мысли мудрецов — состоит в желании блага для всех — я говорю не о Верховном Благе, так как не стоит забывать о том, что мы находимся в 441 году, когда друг наш Платон еще не успел для нас этот мираж создать, а лишь о благе в смысле закона, закона суверенного без границ, закона, выходящего за собственные пределы. Креонт даже не замечает, что он переступает тот пресловутый предел, говоря о котором, ограничиваются, обыкновенно, указанием на то, что Антигона его защищает, что речь идет о неписаных законах Δίκη. Сказав, что в законах этих воплощена Справедливость, Приговор богов, этим, как правило, и довольствуются, хотя на деле сказано этим не так уж много. Так или иначе, речь идет о другой области, в которую Креонт, ничего не подозревая, вступает.
Обратите внимание, что язык его превосходно соответствует тому, что именуется у Канта понятием, Begriff, блага. Это язык практического разума. Отказывая Полинику, изменнику, врагу родины, в погребении, он обосновывает это тем, что нельзя воздавать равные почести тем, кто защищал родину, и тем, кто нападал на нее. С точки зрения Канта, это вполне сойдет за максиму, которая может быть установлена в качестве разумного правила, имеющего всеобщую значимость. Итак, уже здесь, предвосхищая путь этики от Аристотеля к Канту, ведущий к признанию глубинного тождества закона и разума, не воплощает ли собой трагическое зрелище первое этому выводу возражение? Благо не сможет восторжествовать окончательно, не вызвав к жизни эксцесс, о фатальных последствиях которого нас и предупреждает трагедия.
Что же оно представляет собой, это поле, границы которого нужно остерегаться переступать? Там — отвечают нам — царствуют неписаные законы, воля, а точнее Δίκη, богов. Но помилуйте, ведь о богах этих мы давно уже и думать забыли! Надо помнить, что мы давно уже живем под сенью христианских законов, и чтобы вспомнить, что эти боги собой представляли, нам впору заняться этнографией. Прочтите Федра, о котором я недавно упоминал — диалог, развивающий мысль о природе любви, — и вы увидите, что слова, которыми служат нам, чтобы о ней говорить, вступают в нем в совсем иной хоровод.
Что она представляет собой, эта любовь? Быть может, перед нами то самое, что впоследствии, когда совершится христианством произведенная революция, мы назвали любовью возвышенной? Это и вправду нечто ей очень близкое, но достигнутое другими путями. Может быть, это желание? Может, это и есть то самое, что я, как полагают иные, идентифицирую с центральной областью некоего врожденного человеку зла? Или то, что Креонт где-то именует анархией? Но как бы то ни было, вы увидите в Фед-ре, что в любви люди ведут себя в соответствии с эпоптией (epoptia), с посвящением, которое они получили — посвящением в том смысле, который имело это слово в античном мире, где оно означало совершенно конкретные ритуалы, во время которых происходили те самые явления, которые имели место тысячелетиями и существуют, только на других географических широтах, и по сей день. Я имею в виду феномены транса и одержимости, где божество заявляет о себе устами тех, кто оказывает ему, если можно так выразиться, сотрудничество.
Платон уверяет нас, что те, кто получил посвящение от Зевса, ведут себя в любви иначе, нежели получившие его от Ареса. Замените эти имена теми, что где-нибудь в глухих бразильских провинциях служат прозваниями духов земли, войны, или верховного божества, и вы увидите, не углубляясь в экзотику, что речь идет ровно о том же самом.
Другими словами, область эта доступна нам теперь исключительно с точки зрения внешнего, объективного наблюдателя, с точки зрения науки, она не является для нас, христиан, сформированных христианством людей, частью текста, в котором мы свои проблемы для себя формулируем. Это область богов — мы, христиане вымели ее прочь, и вопрос теперь, в свете психоанализа, состоит в том, что, собственно, поставили мы на ее место. Что остается в наши дни пределом, ограждением этой области — ограждением, которое существовало, конечно, всегда, но которое одно по-прежнему стоит нерушимо, отмечая своим присутствием границы этого оставленного нами, христианами, поля. Вот вопрос, который осмеливаюсь я здесь поставить.
Ограждение это, порождающее, если взглянуть на него под правильным углом зрения, феномен отражения, который я в первом приближении называю явлением Прекрасного, и есть то самое, чему я подыскивал определение, говоря о границе второй смерти.
Я уже указал вам на эту смерть у Сада, где она призвана поразить природу в самих истоках ее формотворческого могущества, регулирующего чередование порождения и разложения. По ту сторону этого порядка, который сам по себе не так уж легко помыслить и уложить в форму знания — по ту сторону, говорит Сад, выступающий здесь как веха в развитии христианской мысли, есть что-то еще. И границу, нас от него отделяющую, можно переступить. Именно это и называет Сад преступлением.
Преступление по сути своей представляет собой, как я вам уже показал, всего лишь ничтожный фантазм, но речь идет о том, что за этой мыслью у Сада кроется. Преступление для него — это то, что идет против естественного порядка. Сад доходит до той поистине неслыханной мысли — мысли, по-видимому, действительно небывалой, так как до него ее никто в таком виде не формулировал, хотя кто знает, конечно, какие представления могли иметь хождение задолго до этого в мистических сектах, — что человек способен разрешить природу от уз собственных ее законов. Ибо ее собственные законы служат ей узами. Воспроизводство форм, в кругу которых гаснут, зайдя в тупик, сталкивающиеся в ней возможности, гармонические и непримиримые одновременно, — вот что следует устранить с пути, чтобы заставить ее, если можно так выразиться, начать с нуля. Такова цель, которую ставит перед собой преступление. Не случайно именно преступление является в нашем исследовании желания крайней чертой и именно исходя из первоначального преступления попытался Фрейд сконструировать генеалогию закона. Граница, где происходит творение из ничего, ex nihilo — вот за что держится, как я с первых шагов наших занятий в этом году твержу, всякая мысль, претендующая на то, чтобы быть последовательно атеистической. Последовательно атеистическая мысль выстраивается в перспективе креационизма, и ни в какой другой.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Этика психоанализа(1959-60)"
Книги похожие на "Этика психоанализа(1959-60)" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Жак Лакан - Этика психоанализа(1959-60)"
Отзывы читателей о книге "Этика психоанализа(1959-60)", комментарии и мнения людей о произведении.