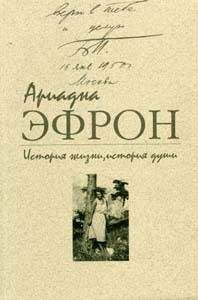Юлиус Белох - Греческая история, том 1. Кончая софистическим движением и Пелопоннесской войной
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Греческая история, том 1. Кончая софистическим движением и Пелопоннесской войной"
Описание и краткое содержание "Греческая история, том 1. Кончая софистическим движением и Пелопоннесской войной" читать бесплатно онлайн.
Так как каждый был безопасен только в своем государстве, то набеги на соседние общины или разбой считались очень почтенным источником наживы. Ограбленные старались, конечно, отомстить, и, таким образом, весь древнейший период греческой истории наполнен беспрерывными войнами. Это было действительно, как говорит поэт, железное время, и оно взрастило воинственное поколение. Каждый должен был ежеминутно быть наготове с оружием в руках отстаивать свою жизнь и имущество; меч был неразлучным спутником мужчины, и никто не выходил из дому, не захватив копья. Народ охотнее всего слушал рассказы о доблестных битвах и смелых морских походах, которые и составляют, наряду со сказаниями о богах, главное содержание эпоса.
ГЛАВА III. Миф и религия
Образование мифов обусловливается стремлением человеческого духа уяснить себе связь и причины окружающих нас предметов и наблюдаемых нами явлений. Так как в первобытную эпоху средства к удовлетворению этой потребности очень ограничены, то большая часть „рассказов" (мифос), которые пускаются в обращение с целью объяснить то или другое явление, оказываются лишенными всякой реальной подкладки; таким образом, слово „миф" получило в классический период греческой цивилизации то значение, которое оно и до сих пор сохраняет во всех европейских языках.
Мифы, или, как теперь обыкновенно говорят, когда речь идет о более близких к нам эпохах, легенды, — возникают во все времена и будут возникать до тех пор, пока мы не будем в состоянии объяснять все явления научным образом или пока и массы не перестанут требовать ответа на те вопросы, которых мы при наших средствах не можем решить. Но в периоды высокого умственного развития мифическое творчество бывает очень ограничено. Тот, кто знает истинную причину видимого движения солнца вокруг земли, уже не будет рассказывать о Гелиосе, который каждое утро на востоке всходит на свою огненную колесницу, поднимается по крутой небесной дороге и вечером, спустившись к западу, уходит на покой. Кто убежден в строгой закономерности естественных явлений, тот не станет сочинять рассказов о чудесах и не будет верить им, если услышит их от другого. Миф процветает только в эпохи невежества, как, например, в древности перед возникновением наук и в Средние века перед их возрождением, т.е. в те самые времена, когда и религиозное чувство бывает наиболее сильно. Поэтому несправедливо говорить о „периоде мифического творчества" как об одной из стадий в истории человеческого мышления; эпохи мифического творчества суть не что иное, как эпохи варварства, и если бы мир когда-нибудь снова погрузился в
мрак невежества, то снова наступила бы такая эпоха.
К образованию мифа может подать повод всякий предмет или явление, причина которого неясна с первого взгляда: явление природы, как и человеческое учреждение, непонятный обычай или даже простое однозвучие двух слов. Так как по-гречески лаос значит народ, а лас — камень, то предполагали, что первые люди были созданы из камней, которые Девкалион и Пирра после потопа бросали за спину. Повсюду в греческом мире, где только было два одноименных города, существовал и миф, по которому один из них был колонией другого. И почти о каждом городе, основанном в доисторическое время, существовало особое сказание, которое сводилось к тому, что название города персонифицировалось в лице героя-эпонима, основавшего город или, по крайней мере, принимавшего участие в его основании. Таким же путем были созданы мифические родоначальники народов, фил и родов; так, например, Гесиод рассказывает, что царь Геллен имел трех сыновей: Дора, Ксуфа и Эола, а Ксуф, в свою очередь, двоих: Иона и Ахея (см. выше, с.93). На том основании, что лавр (дафна) был посвящен Аполлону и сосна (питис) — Пану, придумали мифы о любви этих богов к нимфам Дафне и Питие, которые, спасаясь от их преследований, обратились в одноименные деревья.
Гораздо важнее для истории умственного развития те мифы, которые имеют целью объяснение естественных явлений. Из последних ни одно не затрагивает нас так близко, как смерть. Каким образом жизнь, сейчас еще столь деятельная и могучая, внезапно прекращается? Очевидно, что нечто, присущее живому телу, отсутствует в мертвом. Между тем никто не видел, как удаляется это „нечто" Значит, то, что вызывает жизнь и что покидает нас при смерти, есть нечто бесконечно тонкое и при обычных условиях недоступное для наших чувств.
Миф заимствует свое объяснение, по-видимому, из другого явления. Во сне, а иногда и наяву — при сильном нервном возбуждении, мы видим образы отсутствующих или даже умерших людей; при этом мертвый представляется нам совершенно в таком же виде, какой он имел при жизни. Что мы имеем здесь дело с субъективным впечатлением, с созданием нашей фантазии, об этом первобытный человек думает так же мало, как большая часть образованных людей нашего времени — о разнице между явлениями и сущностью вещей. Для него сновидение — объективная действительность. Следовательно, в нашем теле существует его незримое подобие, бесплотное, как дуновение. Это подобие, эта душа, как мы говорим, может на время оставить тело — тогда наступают обморок и летаргия; когда же оно покидает тело навсегда, то наступает смерть.
Но тот, кто приписывает душу человеку, должен, оставаясь последовательным, признавать ее и в животном, потому что переход от жизни к смерти сопровождается у животного и у человека одинаковыми явлениями. И Гомер, действительно, рассказывает о смерти животных в таких же выражениях, как и о смерти людей. Далее, самое поверхностное наблюдение должно было показать, что духовная жизнь высших животных чрезвычайно сходна с нашей: наблюдение, которое, как известно, у самых разнородных наций — между прочим, уже в очень раннюю эпоху и у греков — привело к созданию животного эпоса. Точно так же засыхает и умирает и дерево, когда его срубят; значит, и в нем должна быть душа. Таким образом, явилось представление о нимфах деревьев, дриадах, которые рождаются и растут вместе с деревом и одновременно с ним должны умереть. Но на этом не остановились. Для первобытного человека еще не существовало той строгой границы между органическим и неорганическим миром, которую научило нас проводить современное естествоведение. Куда бы он ни взглянул, он повсюду видел изменчивость и движение: в журчащем ключе, в бурном море, в течении небесных светил и в блеске молнии. А где есть движение, там должна быть и причина, вызывающая его; и так как понятие о механически действующих силах природы было совершенно чуждо первобытной эпохе, то это движение объясняли так же, как движение живых существ, т.е. приписывали его особому духу, который живет в данном предмете. Еще шаг, и душу начали находить даже в неподвижных телах, например в камне, особенно если он был необычного цвета и странной формации и сверкал на солнце. Мало того: если при погребении вместе с трупом сжигали на костре платье и другие предметы, то первоначально цель этого обычая могла состоять только в том, чтобы дать возможность покойнику пользоваться этими вещами в загробной жизни; следовательно, и последним приписывали душу, которая переживает разрушение самой вещи, как человеческая душа переживает разложение тела. Поэтому, если Гомер говорит о стрелах и копьях, которые жаждут насытиться человеческой кровью, то мы не должны видеть в этих словах простую поэтическую персонификацию.
Так рядом с реальным миром возник мир идеальный, который представляли себе господствующим над первым, подобно тому, как душа управляет телом. Душам, живущим в телах природы, придавали, конечно, все черты человеческой души, — да и как иначе можно было представить себе душу? Поэтому одушевленные тела должны были, как и люди, принадлежать к какому-нибудь полу; например, небо, которое посредством дождя оплодотворяет почву и посылает на землю разрушительную молнию, представляли себе в виде мужчины, всерождающую землю — в виде женщины. В языке до сих пор сохранились следы этого представления: оно обусловило род наших имен существительных. Отсюда естественно было заключить, что эти существа находятся в родственных отношениях между собой. Солнце и месяц считались братом и сестрою, или мужем и женою, небо — их отцом. Сообразно с этими представлениями, все астрономические или физические явления должны были обратиться в физиологические или психологические процессы. Так, гроза казалась битвою между светлыми духами неба и силами тьмы. Но особенно побуждало к созданию таких мифов стремление объяснить движение солнца. Когда светило дня показывается на горизонте, тогда рождается Гелиос; его матерью является или ночь, или утренняя заря, или, как верили малоазиатские греки, — море. Но с восходом солнца ночь исчезает: сын убивает мать. Это представление лежит в основе некоторых знаменитых греческих сказаний, главным образом легенды о матереубийстве Ореста. Первобытное общество не видело в этом ничего предосудительного[67], но потомство постаралось смягчить гнусность таких сказаний, сделав героя или орудием искупления за другое убийство, или безумным, или преступником против воли.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Греческая история, том 1. Кончая софистическим движением и Пелопоннесской войной"
Книги похожие на "Греческая история, том 1. Кончая софистическим движением и Пелопоннесской войной" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Юлиус Белох - Греческая история, том 1. Кончая софистическим движением и Пелопоннесской войной"
Отзывы читателей о книге "Греческая история, том 1. Кончая софистическим движением и Пелопоннесской войной", комментарии и мнения людей о произведении.