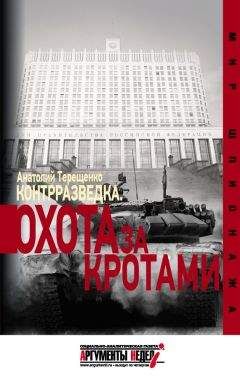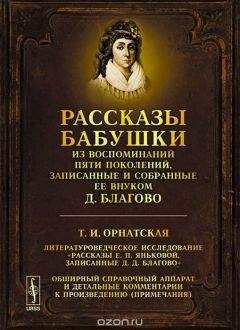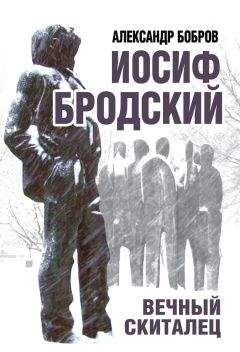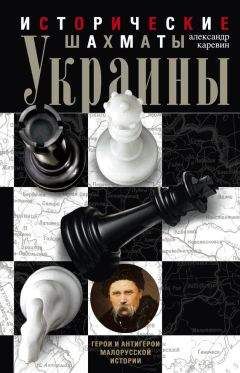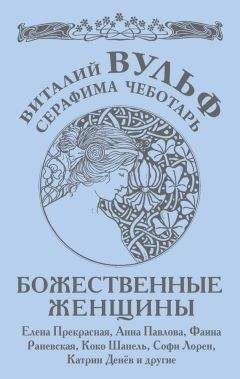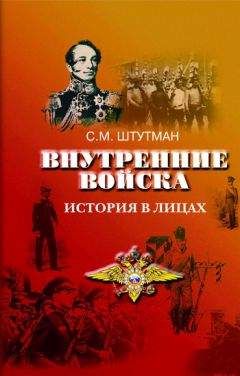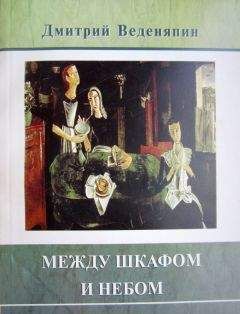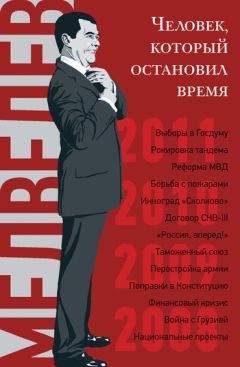Дмитрий Бобышев - Автопортрет в лицах. Человекотекст. Книга 2

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Автопортрет в лицах. Человекотекст. Книга 2"
Описание и краткое содержание "Автопортрет в лицах. Человекотекст. Книга 2" читать бесплатно онлайн.
Автор этих воспоминаний - один из ленинградских поэтов круга Анны Ахматовой, в который кроме него входили Иосиф Бродский, Анатолий Найман и Евгений Рейн. К семидесятым годам, о них идёт речь в книге, эта группа уже распалась, но рассказчик, по-прежнему неофициальный поэт, всё ещё стремится к признанию и, не желая поступиться внутренней свободой, старается выработать свою литературную стратегию. В новой книге Дмитрий Бобышев рассказывает о встречах с друзьями и современниками - поэтами андеграунда, художниками-нонконформистами, политическими диссидентами, известными красавицами того времени... Упомянутые в книге имена, одни весьма громкие, другие незаслуженно забытые, представлены в характерных жестах, диалогах, портретных набросках, письмах и драматических сценках.
Я как-то сказал об этом Довлатову, и он тут же отстукал на своём «ундервуде»: «Бобышев жалуется на неудобства работы на телевидении. Приходится всё время проверять свой зад на вертлявость. Мол, а не вертляв ли он?»
Потом вычеркнул. В заводских многотиражках пришлось ему и не так вертеться. Рассказывал с отчаянным цинизмом, как он писал антиалкогольные статьи, и гонорары от них шли целиком на пропой души, а если верней, так на её отмыв. А когда не хватало, собирал дань у всегда чуть виноватой писательской общественности для помощи несчастному Риду Грачёву-Вите (с одним «т»), который почти не вылезал из жёлтого дома. Представляю себе несколько запущенного «со вчерашнего», но всё ещё обаятельного динозавра в дверях какой-нибудь литературной дамы, Линецкой или Хмельницкой, когда он излагает убедительную просьбу оказать помощь нуждающемуся молодому писателю, уникальному таланту, может быть, гению, попавшему в тенёта душевной болезни... Ну как не оказать, как не сунуть такому пятёрку, ну как не добавить, подумав, ещё и трёшку!
Между тем именно эти две дамы реально помогали Риду Грачёву, и не только пятёрками-трёшками, но главным образом тем, что создавали ему репутацию литературного самородка и гения, свежей надежды шестидесятых. Его прозу всерьёз расхваливал Дар, о его переводах из Сент-Экзюпери и Камю многозначительно и возвышенно отзывался Рейн, поздней я услышал о каких-то эссе, которые, если бы их напечатать вовремя, имели бы общественный резонанс не меньший, чем «Жизнь не по лжи» Солженицына. Да, именно так говорилось, – скорей всего, преувеличенно. Но автор в самиздат их не пускал, а его репутация, не подкреплённая текстами, превращалась в легенду, что, впрочем, действовало на окололитературную публику с пущей силой.
Меня в те годы одолевала идея солидарности и, по тогдашнему временному ощущению не меньше, чем за двести лет до Леха Валенсы, я мечтал о совместной судьбе (и – борьбе?) литературных неофициалов. Как же, мол, так – официалы в спайке, а мы нет, и потому мы бесправны: солидарность, кричу, солидарность!
Так начиналось одно из моих тогдашних стихотворений. Напрасные мечты: сам не умел я кучковать, гуртовать людей, давать им направление или ими манипулировать, но и не терпел, чтобы это проделывали со мной. Как раз в то время ко мне обратился Довлатов (как вначале мне показалось, всерьёз) с идеей самиздатского сборника, наподобие несбывшихся «Горожан»:
– В общих чертах всё уже «обмозговано», извините за этот советизм, – надо только изобрести хорошее название.
– Название? Вот оно: «Быть или не быть» без вопросительного знака!
– Зачем же, к чему здесь пессимистическое «не быть»? Мы как раз хотим именно «быть».
– Это же «Гамлет», а символически – все мы принцы датские. К тому же, у меня есть стихотворение, дающее на знаменитый вопрос ответ, и не только мой личный: «Быть и противобыть». Такая строчка могла бы даже стать девизом...
Приставка «противо» Довлатова явно не устраивала. Он был нацелен на профессионализм, на гонорары, наверное, даже на членство в СП, отнюдь не на солидарность отверженных. А ответил окольно:
– Вы хотите назвать общий сборник по вашему стихотворению? Не слишком ли это... нескромно?
Затея сама по себе оказалась ещё одним дохлым номером. Впрочем, она состоялась, но не тогда и не там. И – без меня. Однако «нескромность» стала уместной, когда величали другого автора. Второго ноября 1979 года я буквально с неба свалился в Нью-Йорке, и уже через неделю, полный планов и ожиданий, с запасом рукописей, своих и чужих, объёмом на несколько альманахов, я связался с Довлатовым, а он меня познакомил со своим соседом, застенчивым и лысоватым Гришей Поляком, работавшим в башнях-близнецах механиком по системам вентиляции и одновременно создавал своё издательство «Серебряный век». Типичная американская мечта, не правда ли? И, что самое интересное, она уже сбывалась. Первый блин был некоей «Кукхой» Ремизова, но дальше Поляк готовил к выпуску новый литературный альманах, – «так не хотели бы вы поучаствовать?» Ещё бы! Очень бы даже хотел.
– Я пока не уверен относительно названия... Как вы думаете: «Шум времени» подходит для альманаха?
– Замечательно подходит! Мандельштам на обложке нового периодического издания – что может быть лучше? Это объединит многих.
Но нашлось лучше, гораздо лучше по мнению Довлатова и редколлегии, где были, конечно, «все свои» и все единомышленники. Барышников вложил деньги, и альманах вышел под названием «Часть речи» с портретом Бродского на обложке. Разумеется, своих материалов я туда не давал, а последующих выпусков уже и не видел.
Перенесу память обратно, в тот ленинградский денёк, когда я шёл познакомиться поближе с легендарным Ридом Грачёвым. Погода отсутствовала начисто, как это нередко бывает у нас в Ингерманландии, заменясь на сырую сквозящую серость, выраженную не только состоянием неба, но и нашей демисезонной одеждой. Цвет мокрого асфальта, присущий эпохе, был даже моден в те годы и назывался «маренго». Ну что сказать о нашей встрече? Мой собеседник был с виду неказист, если не сказать мозгляв. Белесыми проницательными глазами бывшего детдомовца он окинул меня и сразу предложил:
– Пойдёмте-ка поедим где-нибудь, а то я проголодался. Поищем какую-нибудь пельменную, что ли...
Пельменная, конечно, оказалась рядом, за полквартала. Да на шашлычную я бы и не потянул. Прикидывая свой бюджет, я соображал: если он заплатит за себя, то у меня должно будет хватить на порцию «сибирских» плюс пиво. Тогда интеллектуальная беседа польётся сама собой, весело и витиевато закучерявливаясь жигулёвской пеной. Рид безжалостно окоротил мои фантазии:
– Но денег у меня, увы, уже который день – того-с...
– Что вы, что вы, я заплачу, какие тут могут быть сомнения?
Я заказал две порции скользких, дымящихся в холодном воздухе пельменей и, уже смирясь с отсутствием пива, стал смешивать горчицу уксусом для подливы, как вдруг услышал Рида, нюхающего свою порцию:
– Пахнет только что изверженной спермой.
Отодвинув тарелку, я вышел, выпустив порцию пара из двери забегаловки, и больше уже никогда не видел этого человека.
Использование своего дара или, если хотите, своей «гениальности» (в кавычках и без) не ради служения литературе, а ради личных целей – явление не новое. В конце концов, это и есть профессионализм, не правда ли? Но верно и то, что цели могут быть вовсе неблаговидные, даже шкурные:
принудить женщину к близости или отомстить ей за отказ, очернить репутацию противнику, – да чем это лучше общераспространённого чиновничьего греха «использования служебного положения»? Ну разве что тем, что исходит от «гения». При этом надо кивать на пушкинский тезис о несовместности его со злодейством. А если этот гений безо всяких кавычек пользуется семейным гостеприимством, а потом пишет на хозяйку сальную эпиграмму «Один имел мою Аглаю»? Трудный вопрос, который заставляет задуматься о том, кому даётся и кому принадлежит божественный дар – неужели вон тому чернявому живчику? Или же это – надмирное понятие, дух извне, который свободно облюбовывает избранника и, садясь ему на плечо, нашёптывает то «Гильгамеш», то «Кубла-Хан», то оду «Бог», то «Пророка», или же «На воздушном океане», или «О чём ты веешь, ветр ночной?», либо даже диковинное «Кикапу», а то и вовсе неведомое критикам и историкам литературы «Пели-пели-пели, пили-пили-пили»? Разумеется, на чьём-то плече гамаюн засидится подольше, вот и песен появится больше, но оттого и у певца будет больше иллюзий о своей запредельности относительно добра и зла, а то и, наоборот, о своём праве судить и даже карать неугодных – ведь слово есть власть.
Эпиграмма – изящное средство, в чём-то подобное фехтованию, с той только разницей, что о рапирных наскоках и выпадах противник узнаёт одним из последних, когда уж проколот. Конечно, можно и проще: обозвать пожилую сплетницу «трупердой» и получить в ответ диплом рогоносца, – действия, лишь с большой натяжкой относящиеся к литературным. Впрочем, собственно литература вооружена и более сильными средствами, и пародия – одно из сравнительно добродушных. Басня, сатира – вот крупнокалиберные жанры, палящие картечью, но не по личностям, а по обобщённым мишеням, которые скорей прячут, чем обличают караемую персону, потому как тут подвергаются бичеванию не люди, а их пороки.
Ну а если ты гений и жаждешь отмстить конкретным лицам, то о правилах забудь, этику-эстетику тоже, бери в руки суковатую дубину и, в духе Гая Валерия Катулла (не путать с Валерием Туром!), гвозди ею, дубась по мозгам – и свою ветреную возлюбленную, и кого там она предпочтёт тебе – всех внуков Рима, которых тешит она по подворотням, вплоть до Гая Юлия Цезаря:
Чудно спелись два мерзких негодяя:
кот Мамурра и с ним распутник Цезарь!
Оба в тех же валяются постелях,
друг у друга девчонок отбивают...
Вот это уже будет не иносказание, а прямая инвектива, порицание, персональное поношение, и кого? – величайшего властелина и его главинтенданта. На такое, как выразился когда-то Кирилл Косцинский, у современных поэтов «кишка тонка», но это смотря у кого. Например, Маяковский официально именовался тогда «наш современник», а как он лупцевал дубиной по головам, и не только буржуазным, но и литераторским – Корнея Чуковского, Игоря Северянина, Ильи Сельвинского, Георгия Шенгели, и всё – внутри текстов, постранично проштемпелёванных «гениально», «гениально», «гениально». Пусть трижды три так, и даже в квадрате и кубе, но всё-таки разрушительно и, что надо обязательно отметить, саморазрушительно как в переносном, так и в буквальнейшем смысле.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Автопортрет в лицах. Человекотекст. Книга 2"
Книги похожие на "Автопортрет в лицах. Человекотекст. Книга 2" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Дмитрий Бобышев - Автопортрет в лицах. Человекотекст. Книга 2"
Отзывы читателей о книге "Автопортрет в лицах. Человекотекст. Книга 2", комментарии и мнения людей о произведении.