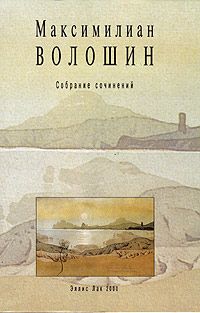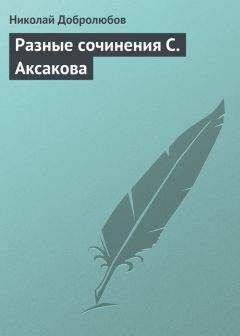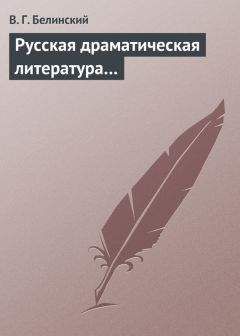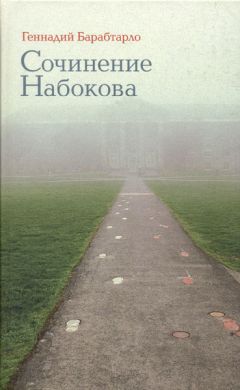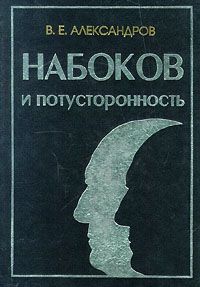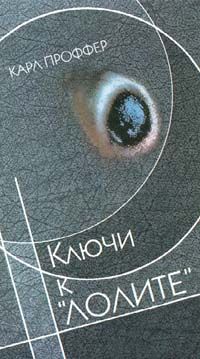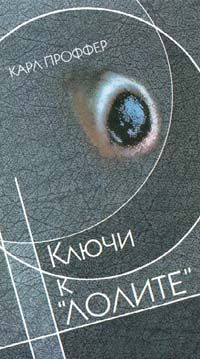В. Александров - Набоков и потусторонность
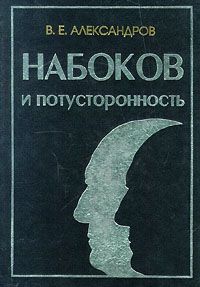
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Набоков и потусторонность"
Описание и краткое содержание "Набоков и потусторонность" читать бесплатно онлайн.
В. Е. Александров — профессор русской литературы и заведующий отделом славянских литератур Йельского университета, один из самых известных исследователей творчества В. Набокова. В книге В. Е. Александрова миросозерцание В. Набокова раскрывается благодаря детальному анализу поэтики русско- и англоязычной прозы писателя.
Книга адресована как студентам, преподавателям и исследователям творчества В. Набокова, так и широкому кругу читателей.
Несколько упрощая, можно сказать, что ощущение, пережитое В. в госпитале, — это общение с душой умершего. Значение этого опыта состоит в том, что, как видно, ошибка Себастьяна относительно места смерти матери сходна с заблуждением биографа, когда он очутился в госпитале: промах Себастьяна особого значения не имеет и не может подвергнуть сомнению безупречную точность его видения.{172} В пользу последнего говорит и любопытное сходство между тем, как он описывает призрак матери, и рассказом В. о ее появлении в России, когда Себастьян был еще в отроческом возрасте. Откуда ему об этом известно, откуда он знает, как она выглядела, В. не говорит, но догадаться можно. Один из возможных источников — «Утерянные вещи», откуда В., отдавая себе в том отчет или нет, просто переписал в несколько адаптированном виде соответствующие строки, пусть они и отдают теперь анахронизмом. Другой — потустороннее влияние, которое оказывает Себастьян на стилистику В., — предположение, которое то и дело напрашивается на протяжении всего романа.
О том, что призрак матери, явившийся Себастьяну, — не просто мираж, свидетельствует частота, с какой появляются перед В. разного рода видения. По отдельности их можно воспринимать как фигуру речи при описании какого-то физического объекта, либо как иллюзию; но взятые вместе, они требуют для своего оправдания оккультных категорий. Например, роясь в платяном шкафу брата, В. испытывает ощущение, будто «тело Себастьяна размножилось в оцепенелой последовательности осанистых фигур» (CI, 53). Вскоре после того В. чудится, что он видит «прозрачного Себастьяна, сидящего за столом», хотя тут же добавляет: «…припомнив кусок о ложном Рокебрюне» (городок, где умерла мать Себастьяна. — В. А.), может, «он предпочитал писать, лежа в постели?» (CI, 55). Когда В. навещает старого кембриджского однокашника Себастьяна, дух последнего, казалось, «витал над нами в отблесках огня, отраженных медными шишечками очага» (CI, 61). А вот пример чего-то вроде видения: мгновенное ощущение близости, которое В. испытывает к мадам Лесерф, женщине, сыгравшей некогда большую роль в жизни его брата: «Пыль клубилась в наклонном солнечном луче; завитушки табачного дыма соединились с ней и закружились медленно и вкрадчиво, словно бы обещая в любую минуту образовать живую картину» (CI, 161). Затем В. закрепляет впечатление, будто является ему лишь нечто похожее на привидение, говоря, что всего-навсего хочет «позабавить» читателя «и кто знает, быть может, и дух Себастьяна» (CI, 161), и предпринимает настойчивые усилия сбросить чары мадам Лесерф. Раздумывая попутно, где бы мог быть его брат, В. сам провоцирует разного рода мистические интерпретации того воздействия, которое оказывал на него Себастьян: «Мирно истлевает на кладбище в Сен-Дамье. Весело обитает в пяти томах. Незримый, вперяется через мое плечо, пока я это пишу (хотя, посмею сказать, слишком уж он сомневался в истасканной вечности, чтобы даже теперь уверовать в собственное привидение)» (CI, 66). Трехчленная конфигурация предлагает такой тип посмертного существования, который отличен не только от физических, но и от метафорических форм (в виде, допустим, известного клише: «он живет в своих книгах»). Более того, в свете позднейшей набоковской тяжбы с идеей «здравого смысла», ссылку на недоверие Себастьяна к «общим местам» вроде существования жизни после смерти можно толковать скорее как желание остаться верным своему уникальному опыту, нежели как безусловное отрицание самой идеи трансцендентального бытия. В другом месте В. говорит о своей решимости довести начатую биографию до конца, чему, в частности, способствует тайная уверенность, что «каким-то неприметным способом тень Себастьяна пытается мне помочь» (CI, 106) (курсив мой. — В. А.). И наконец, описывая безмятежный поначалу роман Себастьяна с Клэр, В. замечает: «И невозможно поверить, что это тепло, эта нежность, красота всего этого не собраны и не сберегаются где-то, как-то, каким-то бессмертным свидетелем смертной жизни» (CI, 94) (курсив мой. — В. А.). Все эти реплики восходят к одной, на удивление случайной фразе героя-повествователя, когда он говорит о смерти как о «странной привычке» (CI, 50), имея, стало быть, в виду, что от нее, как и от других дурных привычек, можно избавиться.
В ходе своих расследований В. нередко чувствует исходящие откуда-то импульсы. Еще более загадочные, нежели его видения, они тем не менее с той же настойчивостью подтверждают, что предприятие его санкционировано и направляется свыше. Решение найти Клэр приходит внезапно и необъяснимо; он сам уподобляет его столь же необъяснимой убежденности, что, успев оказаться у смертного одра брата, он услышит «нечто такое, чего не знал еще ни один человек» (CI, 86). Но увидев, наконец, Клэр на улице, В. вдруг с полной ясностью осознает, что «нельзя ни заговаривать с нею, ни даже поздороваться так или иначе» (CI, 88). И совсем, как он поясняет далее, не из-за Себастьяна или книги о нем. Все дело в ее «величавой сосредоточенности» (CI, 88–89), объясняющейся, может, ее беременностью, причем на поздней стадии. Но даже и при этом, как далее признается повествователь, удача, которая пришла к нему в раскрытии определенного периода жизни Себастьяна, «искра, воспламенившая все это, каким-то таинственным образом связана с Клэр Бишоп, с той минутой, когда я увидел ее тяжело ступающей по лондонской улочке» (CI, 97). И не случайно, конечно, что, остановив все же Клэр на улице и неуклюже подыскивая предлог сказать хоть что-то, В. вытаскивает из кармана первое попавшееся («Простите, пожалуйста, это не вы обронили?») и оказывается, что это ключи от квартиры Себастьяна (CI, 89). В. предстоит еще раз оказаться такой же игрушкой неподвластных ему сил: «Я сознавал, что мне дается последний шанс…» (CI, 157) — речь идет о встрече с Еленой фон Граун, которая приведет — так кажется биографу — к разгадке тайны последней, разрушительной любви Себастьяна. Такого рода происшествия укрепляют В. в убеждении, что в попытках рассказать о жизни Себастьяна он шел верным путем.
В конце романа предчувствия В. достигают порога уверенности. Он получает письмо от Себастьяна с просьбой приехать, и эта просьба тут же подкрепляется удивительным сном, с его «абсолютным моментом», когда Себастьян зовет брата, говорит ему что-то, какие-то слова, в которых «не было никакого смысла, когда я вынес их из сна» (CI, 179). Сами эти слова (в тексте они не воспроизводятся) несут на себе набоковское клеймо — послание из потусторонности. Выстраивается ряд несоизмеримых реальностей: шахматный гений Лужина и повседневная жизнь («Защита Лужина»), «нетки» («Приглашение на казнь»), зазор между домом и пейзажем вокруг него как аллегорией жизни после смерти («Дар»). Во всем отражается ощущение Набокова, что потусторонность существенно непознаваема в земных категориях.
Присутствие надличной силы, направляющей В., аргументируется и обнаружением некоего давно существующего узора, в который вписываются как будто открывающиеся ему факты. У поисков моих, говорит биограф, есть своя магия и своя логика, что находит, например, следующее подтверждение: «Видимо, закон некой странной гармонии поместил встречу, относящуюся к первой юношеской любви Себастьяна, в такой близи с отголоском его последней, темной любви» (CI, 135). Вот что имеется в виду. Коль скоро к встрече с «сестрой Розанова» — героиней «юношеской любви» — приводит случайная реплика Элены Гринштейн, «гармония», обнаруженная и воплощенная В. в тексте, не им, оказывается, создана. Напротив того, он как будто теряется в лабиринте узора, либо кто-то неведомый заставляет ткать его — в любом случае в своих действиях В. несвободен.
Имея в виду эти особенности разысканий, а также писательскую профессию героя, представляется правдоподобным предположение, что и деятельность Себастьяна направляется потусторонними силами или, во всяком случае, как-то с ними связана. Многозначителен в этой связи образ, возникающий у биографа: слова, которые Себастьяну предстоит записать, уже хранятся в его сознании и только ждут выражения. Красноречива и мысль его друга Шелдона, который считал, что «мир последней книги, которую Себастьяну еще предстояло писать несколько лет спустя („Неясный асфодель“), уже отбрасывал тень на все, его окружавшее, и что романы его и рассказы — это лишь яркие маски, лукавые искусители, безошибочно уводившие его под предлогом артистического приключения к некой неминуемой мете» (CI, 108) (курсив мой. — В. А.). Как мы знаем от биографа, «Неясный асфодель» производит соблазнительное впечатление, будто автор познал все тайны жизни и смерти. А поскольку на протяжении всей «Подлинной жизни Себастьяна Найта» нам всячески дают понять, что смерть еще не означает конца (и это лишь укрепляет основательность суждений В. по поводу последней книги Найта), то из реплики Шелдона следует, возможно, что Себастьян был ведом потустороннею силою на всем протяжении своей жизни в искусстве.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Набоков и потусторонность"
Книги похожие на "Набоков и потусторонность" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "В. Александров - Набоков и потусторонность"
Отзывы читателей о книге "Набоков и потусторонность", комментарии и мнения людей о произведении.