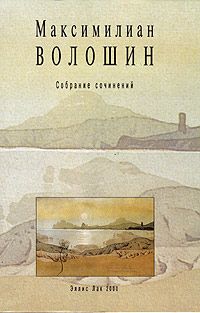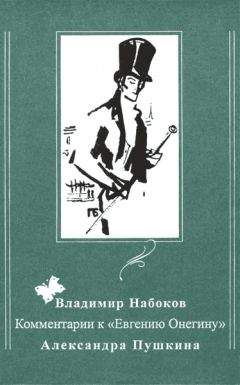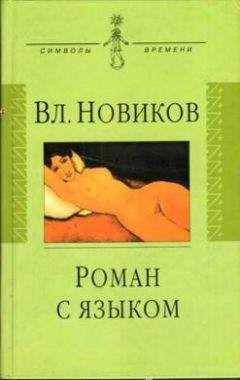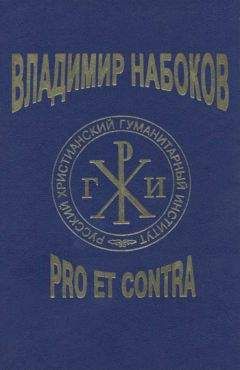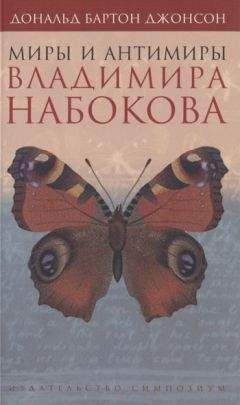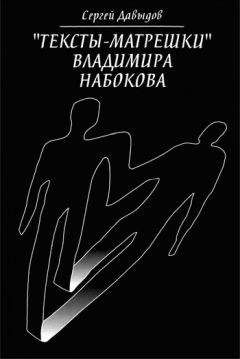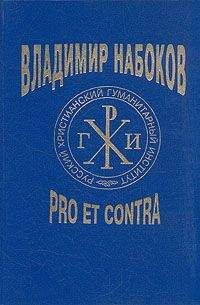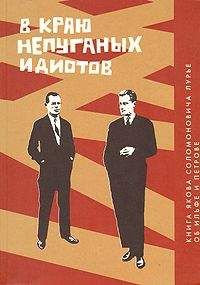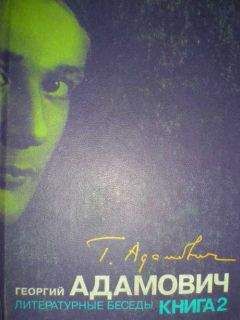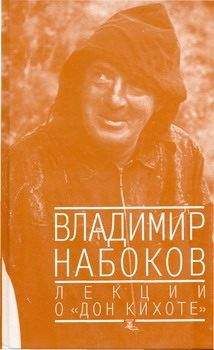В. Александров - Набоков и потусторонность

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Набоков и потусторонность"
Описание и краткое содержание "Набоков и потусторонность" читать бесплатно онлайн.
В. Е. Александров — профессор русской литературы и заведующий отделом славянских литератур Йельского университета, один из самых известных исследователей творчества В. Набокова. В книге В. Е. Александрова миросозерцание В. Набокова раскрывается благодаря детальному анализу поэтики русско- и англоязычной прозы писателя.
Книга адресована как студентам, преподавателям и исследователям творчества В. Набокова, так и широкому кругу читателей.
Таким образом, перенос шахматного мышления в сферу быта — желание героя предугадать и предупредить то, чему суждено случиться — оборачивается попыткой прочитать собственное будущее. Это возможно на шахматной доске, где любая позиция предшествует иной, новой позиции, но возможно ли это в жизни? Как явствует из целого ряда интервью, Набоков полагал, что нет, невозможно.{131} В мемуарах автор ясно дает понять, что умысел судьбы можно постичь только силою памяти о прожитом. Но несмотря на все это, Набоков-таки одаряет отчасти Лужина способностью проникновения в собственное будущее, или хотя бы в один из его вариантов. Это видно из эпизода, в котором Валентинов буквально силком затаскивает Лужина в киностудию с ясно ироническим наименованием «Веритас». В сознании Лужина проносится поток чудесных шахматных воспоминаний, и повествователь вторит герою: «Все было прекрасно, все переливы любви, все излучины и таинственные тропы, избранные ею. И эта любовь была гибельна. Ключ найден. Цель атаки ясна. Неумолимым повторением ходов она приводит опять к той же страсти, разрушающей жизненный сон. Опустошение, ужас, безумие» (II, 146). В смысловом отношении этот пассаж необычайно богат. Лужин наконец осознает, что его неотвратимо влечет назад в мир шахмат. Тем не менее не дано ему подняться на высоту, с которой видно, что этой судьбе он был обречен с детства. В свете всепроникающей двойственности, которой отмечен весь роман, весьма красноречивым является тот факт, что, впав поначалу в экстаз воспоминаний о тысяче сыгранных партий, Лужин в конце концов ощущает разрушительную силу владеющей им страсти. Это двойственное отношение стягивает воедино обе стороны его существования — духовную и физическую. Ужас есть выражение самозащиты плоти, которой предстоит заплатить слишком высокую цену за полное растворение в мире шахмат. «Жизненный сон» — слова, выдающие присутствие автора в этом пассаже, построенном на технике несобственно-прямой речи, напоминают о гностических мотивах, возникавших в романе ранее, и указывают на то, что рутина жизни, которой Лужин в этот момент как будто так дорожит, есть на самом деле иллюзия, а истинная жизнь — где-то в иных измерениях. Точно так же ссылки на «любовь» по отношению к прошлому героя венчают сложную цепь перекличек между его ростом как шахматиста и темами чувственной и платонической любви. На этом смысловом уровне, где дают о себе знать тайные пружины романа, вновь ощущается присутствие скрытого автора.
Лужин задумывает самоубийство, чтобы уйти от того, что читателю видится его судьбой с самых юных лет. Но означает ли самоубийство, что Лужину действительно удалось совершить акт свободной воли и встать поперек судьбы? Вряд ли. Велика вероятность того, что якобы свободно избранная смерть есть на самом деле еще одно, в высшей степени ироническое воплощение предопределенности. При взгляде из окна, откуда он вот-вот выпрыгнет, Лужину казалось, что «вся бездна распадалась на бледные и темные квадраты» (II, 152). Этот образ чаще всего толкуют в том смысле, что Лужин в последний раз пытается уловить мир в сетку шахматных изображений. Но поскольку слишком многое в романе свидетельствует о том, что Набоков истолковывает земное безумие в потустороннем смысле, можно предположить, что шахматная доска, мельком возникающая перед взором героя, это на самом деле образ ожидающей его вечности. Иными словами, если, расставаясь с жизнью, Лужин входит в тот самый мир, что открывался ему в кульминационные моменты игры, то даже самоубийство не позволяет ему уйти от шахмат, то есть уйти от судьбы. Сама возвратная форма глагола — «бездна распадалась» предполагает, что черно-белый узор шахматной доски вовсе не обязательно есть проекция лужинского восприятия. Подобное прочтение фразы позволяет объединить открывающийся Лужину шахматный узор с «вечностью», которая «угодливо и неумолимо раскинулась перед ним» (II, 152), как говорит повествователь, не определяя, однако, ее природу. Нельзя, разумеется, утверждать, что в финале романа есть нечто большее, нежели просто намек на то, что Лужин перемещается в иной модус существования. Но важно отметить, что Набоков однажды и сам допустил такую возможность: «Добравшись до конца романа, я внезапно понял, что книга не окончена».{132}
Глава 3
«Приглашение на казнь»
По жанру «Приглашение на казнь» (1938) ближе к аллегории, чем любой из набоковских романов. Внешне это рассказ о последних перед казнью неделях жизни узника в каком-то ничем не примечательном тоталитарном государстве будущего. Но в отличие от таких известных антиутопий, как «Мы» Евгения Замятина, «Прекрасный новый мир» Олдоса Хаксли и «1984» Джорджа Оруэлла, где речь идет в основном о проблемах политической и социальной организации и ее морально-психологической подоплеке, Набоков сосредоточивается на взаимоотношениях индивида с метафизической реальностью. И в самом деле, как показал Джулиан Мойнихен, а затем, в развернутой форме, Сергей Давыдов, жизнь главного героя романа Цинцинната Ц. в основных своих чертах укладывается в понятие гностического топоса.{133} Вообще-то Набоков сам на это намекнул, переменив определение совершенного Цинциннатом преступления: «гносеологическая гнусность» русского оригинала превратилась в «гностическую гнусность» английского перевода. Отсюда не следует, разумеется, что Набоков, так сказать, принял гностическую веру. Но возникновение гностических мотивов в целом ряде его произведений наталкивает на мысль, что иные (хотя и не все) стороны этого старого мировоззрения оказались ему близки.
Быть может, ведущая роль метафизики в романе (а она неизбежно вовлекает в зону воздействия эстетику и этику) заставила Набокова в предисловии к английскому изданию романа отклонить утверждения, будто моделью ему послужили большевистский и нацистский режимы или что он испытал воздействие Кафки. В противоположность произведениям австрийского писателя (Набоков, впрочем, ценил его, а особенно новеллу «Превращение», исключительно высоко), в «Приглашении на казнь» ясно ощущается вера в потусторонность, при свете которой бессмысленные как будто страдания героя, живущего в мире, на вид совершенно абсурдном, превращаются в слепок гностической драмы искупления. Вопреки мнениям многих критиков, роман далеко не исчерпывается осуждением политического террора либо гимном во славу чисто воображаемой свободы перед лицом смерти. Лишь осознав потусторонность как фокус всей романной проблематики, можно верно понять его смысл.{134}
В ряду проницательно отмеченных С. Давыдовым гностических «пятен» романа особое место занимает образ Цинцинната как пленника крепостного лабиринта: возникает соответствие гностическим идеям, согласно которым человек попадает в западню порочного материального мира, а тело его — тюрьма души. Даже такие детали, как змеевидная дорога, что ведет в крепость, и собачьи маски на лицах тюремных надзирателей заимствованы из гностической символики зла. Детская прогулка Цинцинната по воздуху — эпизод, сразу выделяющий героя в общем кругу и приводящий в конце концов в тюрьму и на плаху — прообразом своим имеет гностическое разделение человечества на индивидов духовных и телесных, а также миф об изначальном пленении человеческого духа. Связаны с этим и целые пучки иных деталей, например, противоположность между воздушным обликом Цинцинната и грубой телесностью его жены и палача, или вид Цинцинната, снимающего с себя части тела, словно это предметы туалета, или его самоуподобление жемчужине, утопленной в акульем жиру, — все это имеет аналоги в гностических текстах. Гностическая вера в то, что избавитель или знамение, посланное положительной, духовной силой света, могут пробудить душу избранного от дремотного состояния в земной юдоли, воплощается, например, в неземном свете, который Цинциннат каким-то неизъяснимым образом видит в тюремном коридоре, или в не менее таинственном послании о неведомом отце, которое приносит ему мать. Подчеркнутая автором, но еле выразимая интуиция Цинцинната, позволяющая ему улавливать в этом мире нечто существенное, важное и иным недоступное, его растущее осознание того, что смерть следует приветствовать как освобождение из земной тюрьмы, тоже отражают гностическую идею, согласно которой спасение обретается через познание высших истин («гнозис» — знание). Наконец, как подчеркивает С. Давыдов, распад материального мира, следующий за казнью героя, и прорыв в иное измерение воплощает гностическую веру в то, что с возвращением всех духовных сущностей к их божественному источнику материальный космос будет разрушен.{135} Через весь роман подспудно проходит также мысль об элитарном характере гностицизма, и Цинциннат, следовательно — один из немногих избранных, а вовсе не Всечеловек, каковым он кажется некоторым читателям.{136} По сути, его портрет близок к образу «антиздравомыслящего» поэта, человека не от мира сего, — или героя многих набоковских произведений.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Набоков и потусторонность"
Книги похожие на "Набоков и потусторонность" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "В. Александров - Набоков и потусторонность"
Отзывы читателей о книге "Набоков и потусторонность", комментарии и мнения людей о произведении.