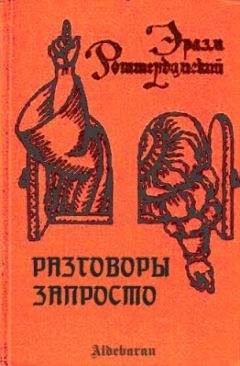Георг Лукач - Литературные теории XIX века и марксизм
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Литературные теории XIX века и марксизм"
Описание и краткое содержание "Литературные теории XIX века и марксизм" читать бесплатно онлайн.
Государственное Издательство Художественная Литература Москва 1937
"По тем же основаниям Маркс и Энгельс в своей полемике против идеалистической философии имели дело со второй редакцией. И аргументация, которую они выдвигали против нее, потому и является исчерпывающей, что она совпадает с первой редакцией Канта, с собственным и первоначальным мнением Канта, с "эмпирическим реализмом" Канта. Они в действительности противопоставили нефальсифицированного Канта фальсифицированному…"[37]
Сущность этого "эмпирического реализма" Меринг толкует в том смысле, что вещь в себе есть "всего лишь пограничное понятие человеческого ума". Но это уже не материалистическое преодоление Канта, а как раз наоборот — идеалистическое, агностическое продолжение его тенденций. Ленин говорит в своем "Материализме и эмпириокритицизме" чрезвычайно ясно и четко о критике кантианства слева и справа. Он пишет, что"…юмист Шульце отвергает кантовское учение о вещи в себе, как непоследовательную уступку материализму, т. е. "догматическому" утверждению, что нам дана в ощущении объективная реальность, "ли иначе: что наши представления порождаются действием объективных (независимых от нашего сознания) предметов на наши органы чувств. Агностик Шульце упрекает агностика Канта за то, что допущение вещи в себе противоречит агностицизму и ведет к материализму"[38]. И далее, продолжая ту же полемику с Авенариусом, Ленин пишет: "На самом деле он только очищал агностицизм от кантианства. Он боролся не против агностицизма Канта… а за более чистый агностицизм, за устранение того противоречащего агностицизму допущения Канта, будто есть вещь в себе, хотя бы непознаваемая, интеллигибельная, потусторонняя… Он боролся с Кантом не слева, как боролись с Кантом материалисты, а справа, как боролись с Кантом скептики и идеалисты".
Уже отмеченная нами в общих чертах двойственность философской позиции Меринга проявляется в отношении его к кантианству очень ярко. Меринг искренно убежден, что борется против неокантианского ревизионизма слева, и местами это действительно так. (Напомним о его отношении к Геккелю и к естественно-научному материализму.) Но Меринг не умеет понять историческое значение Канта, устраняет из философии Канта как раз тот пункт, в котором Кант, вопреки остальной своей системе, сближается с материализмом (допущение вещи в себе); он прославляет Канта как раз за те пункты, в которых Кант был прямым предшественником неокантианского агностического идеализма.
Меринг говорил о неокантианцах: "Конечно, и неокантианцы не желают знать никакой "вещи в себе". Они утверждают, что Кант хотел обозначить этим лишь "бесконечную задачу познания. Это не икс какой-то таинственной загадки, а икс бесконечного уравнения, разрешаемого посредством непрестанного дальнейшего исследования" [39].
Меринг тут же замечает, что вступил на очень опасную почву: "Если бы мнение Канта было действительно таково, то полемика Энгельса против "вещи в себе" оказалась бы хоть и не ошибочной, но излишней, поскольку она ломилась бы в открытую дверь". Не говоря уже о том, что эти слова находятся в кричащем противоречии с вышеприведенными соображениями Меринга о различии между первым и вторым изданиями "Критики чистого разума", из высказанного здесь отрицания неокантианской интерпретации Канта следовало бы только то, что неокантианцы хоть и неправильно толкуют Канта, но зато философски развивают его мысль в правильном направлении. Меринг действительно так думал. Это совершенно ясно из дальнейшего: "Если Коген и Штаудингер, как мы сказали выше, понимают вещь в себе уже не как икс какой-то таинственной загадки, а как икс бесконечного уравнения, разрешаемого посредством непрестанного дальнейшего исследования, то они переходят от Канта к Энгельсу…"[40] Меринг совершенно смешивает здесь "правую" критику Канта с "левой" его критикой; будучи субъективно уверен, что он борется против Канта слева, он здесь защищает тех неокантианцев, которые старались исправить непоследовательность Канта в вопросе о вещи в себе справа, в духе более последовательного агностицизма. В том, что это не случайный, единичный промах у Меринга, убеждает нас его историческая оценка Ф. А. Ланге сравнительно с материализмом пятидесятых годов: Меринг хвалит Ланге за то, что он "вернулся обратно или, вернее, пошел вперед к Канту" [41].
Это ошибочное отношение к Канту и неокантианству неизбежно влечет за собой ошибочное отношение к теории познания Маха. И здесь позиция Меринга двойственна. Он осмеивает со всем блеском своего публицистического пера махистскую историю философии Пецольда. Но Меринг стремится при этом только спасти исторический метод от путаницы, которую создало бы догматическое перенесение естественно-научных методов в историю. И Меринг слишком легко поддается уверениям Маха и махистов, что речь идет у них только о естественно-научном методе, а не о теории познания. Более того, при столь свойственной Мерингу неприязни к философским "химерам", при его взгляде на Маркса и Энгельса как на мыслителей, которые тоже не интересовались философскими "химерами", вполне естественно, что он конструирует некое согласие между Махом и Марксом.
Значит, опять-таки Меринг борется против махизма, но борется против него с таких философских точек зрения, которые вынуждают его в решающих пунктах капитулировать перед махизмом. И здесь он может удержаться на левых позициях, только идя против течения своих собственных мыслей. Согласие между Махом и Марксом Меринг формулирует в различных статьях так: "Как Дицген, так и Мах защищают гносеологический монизм, стремящийся устранить всякий дуализм физического и психического. Разница лишь в том, что Мах вовсе не хочет быть философом… И постольку Мах превосходно согласуется с Марксом, который отпустил на все четыре стороны всякую философию и усматривал духовный прогресс человечества только в практической работе в области истории и природы"[42].
И в другом месте: "Против "восполнения" в том смысле, что Мах в области физики сделал то же самое, что Маркс в области истории, я ничего не имею возразить; единственно, чего я добивался, это ясно и отчетливо разграничить методы исследования в науке об обществе и в естественных науках, и я со всей энергией подчеркнул, что Мах сам ни разу не допустил в этом отношении ни малейшей погрешности".
В рамках настоящей статьи невозможно отметить все те пункты, в которых проявляются эти колебания Меринга, это внутреннее противоречие в его мировоззрении. Но укажем еще на два важных вопроса, которые приобрели очень важное значение для его исторических оценок также и в области истории литературы. Мы имеем в виду, во-первых, отношение Меринга к кантовской этике, особенно к категорическому императиву. Положение Канта, что ни один человек не должен рассматриваться как средство, но всякий только как цель, признается однажды Мерингом за "положение, убийственное для всякой погони за прибылью"; в других местах Меринг ясно видит, что это положение Канта есть не что иное, "как идеологическое выражение того экономического факта, что буржуазия в погоне за пригодным для ее способа производства объектом эксплоатации должна была трактовать рабочий класс не только как средство, но и как цель, то есть должна была освободить его от феодальных оков во имя человеческой свободы и человеческого достоинства"[43]. Эти шатания Меринга заходят подчас так далеко, что он даже сравнивает "Коммунистический манифест" с этикой Канта и говорит: "Стало быть, по своему смыслу этика у Канта и Маркса одна и та же: только "аналитическое обоснование" у Канта заключается в том, что он ухитряется примирить со своим положением средневековосословное разделение па граждан государства и членов государства, тогда как "исторически причинное" обоснование у Маркса состоит в том, что он на ходе экономического развития показывает, как должен осуществиться его идеал"[44]. Ясно, что при таких предпосылках невозможна действительно последовательная борьба против неокантианского соединения Канта с Марксом. Ведь при такой интерпретации этика Маркса есть не что иное, как радикально додуманная до конца этика Канта. Меринг еще может кое-как отвергать оппортунистические выводы неокантианцев в политике, но он бессилен вскрыть несостоятельность всей их позиции в целом. Он местами даже вынужден апеллировать против Когена, пытающегося обосновать социализм "этически", к взглядам Лассаля, чтобы показать, что в рабочем движении все это уже было осуществлено раньше и лучше, чем в постулатах Когена.
В заключение еще несколько замечаний о критике Ницше у Меринга. Она интересна для нас не только тем, что в ней проявляется все то же противоречие, но прежде всего потому, что здесь на конкретном примере обнаруживаются роковые идеологические последствия чрезмерной схематизации классового развития, какую мы находим у Меринга. Несомненно, Мерингу принадлежит серьезная заслуга: он очень рано и самым реши тельным образом выступил против Ницше. В своей брошюре "Капитал и пресса" (1891 г.) Меринг чрезвычайно резко критикует Ницше как философа капитализма. Но в то же время к некоторым элементам романтической критики буржуазии у Ницше он испытывает непреоборимую симпатию. О книге Д. Ф. Штрауса "Старая и новая вера" он пишет, что она представляет собою прославление "самого безотрадного манчестерства". "Против этого возмутился художник в Ницше, который воспитал свой вкус в школе античной Греции. Он пришел в ужас от той страшной опустошенности, которая проникла после перехода буржуазии к Бисмарку в духовную жизнь Германии и разрушила даже наш благородный язык… Поднявшись против "трактирного евангелия" Штрауса, Ницше бесспорно встал на защиту самых славных традиций немецкой культуры"[45]. Тут характерна не только безотчетная симпатия к Ницше с его романтически-реакционной псевдо-критикой буржуазной культуры, но характерно и то, что тот же Меринг, который десять лет назад так проницательно и ярко вскрыл в Ницше апологета капитализма, подходит теперь к антагонизму между Штраусом и Ницше чисто идеологически и не умеет повести марксистскую борьбу на два фронта — против вульгарно-либерального Штрауса и романтического реакционера Ницше. Эта неспособность Меринга находится в связи с тем, что он вообще понимает слишком схематически-прямолинейно идеологический упадок буржуазии и не умеет конкретно проанализировать те более сложные духовные течения, которые возникают вследствие неравномерности развития. Так, написав свою уничтожающую критику Ницше, он вскоре затем находит случай коснуться отношения Ницше к современной буржуазии[46]. "Капитализм на нынешней ступени своего развития слишком изношен духовно ал слишком пронырлив экономически, чтобы нуждаться в мистических философах как в своих духовных ратоборцах; для этой цели ему могут теперь уже служить только такие безыдейные и бессовестные зубоскалы, как г. Евгений Рихтер…"
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Литературные теории XIX века и марксизм"
Книги похожие на "Литературные теории XIX века и марксизм" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Георг Лукач - Литературные теории XIX века и марксизм"
Отзывы читателей о книге "Литературные теории XIX века и марксизм", комментарии и мнения людей о произведении.