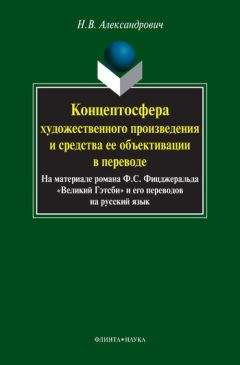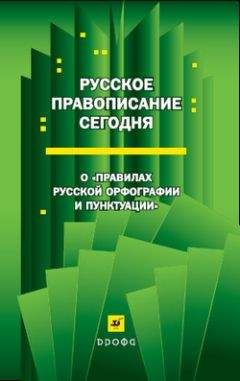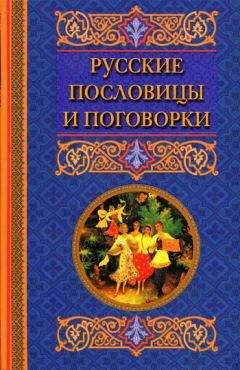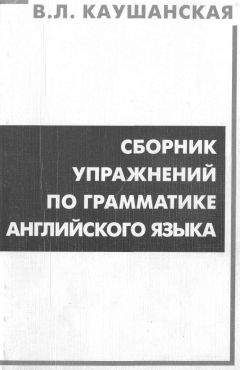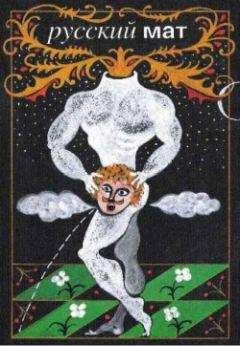Сборник - Литературный текст: проблемы и методы исследования. 7. Анализ одного произведения: «Москва-Петушки» Вен. Ерофеева (Сборник научных трудов)
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Литературный текст: проблемы и методы исследования. 7. Анализ одного произведения: «Москва-Петушки» Вен. Ерофеева (Сборник научных трудов)"
Описание и краткое содержание "Литературный текст: проблемы и методы исследования. 7. Анализ одного произведения: «Москва-Петушки» Вен. Ерофеева (Сборник научных трудов)" читать бесплатно онлайн.
Сборник посвящен поэме Вен. Ерофеева «Москва–Петушки» как образцу прозы второй половины XX века. В статьях предлагаются разные подходы, позволяющие, по мнению авторов, относительно объективно понять и истолковать подобные произведения.
В заключение публикуется записная книжка Вен. Ерофеева 1974 года.
Третья часть в определенном смысле концентрирует в себе основные мотивы первых двух частей — тоски и смеха. При этом смех, организующий вторую часть, преобразуется в третьей в хохот: хохотала Суламифь, понтийский царь Митридат «захохотал, <…> Потом ощерился, потом опять захохотал!» (с.111). Хохот вместе с ножом создает провидческую картину, в которой появляется столь важный для этого смыслового поля поэмы образ бесов: «А он уже ничего не слышал и замахивался, в него словно тысяча почерневших бесов вселилась…» (с.111). Наконец, хохотали дети над дымящейся сигаретой, вставленной в мертвый полуоткрытый рот. Смеялись и небесные ангелы в то время, как Бог молчал. И на фоне этого смеха-хохота погибает пустомеля-дурак-демон, и смерть ему несут четверо с классическим профилем отнюдь не разбойничьего вида. Кто эти четверо, отдельный вопрос — здесь же важно отметить контекст, в котором они появляются.
В отличие от смеха-хохота, тошнота-тоска дана не в прямом обозначении, а через описание состояния героя. Прежде всего актуализируется одно из значений понятия «тошно» — «тяжело»: «мне было так тяжело, что говорил я почти беззвучно» (с.111); «тяжелая мысль», «тяжелая догадка». Наконец, «тяжелое похмелье», возникающее в контексте определения жизни как «минутного окосения души». Глава «Петушки. Вокзальная площадь» имеет особое значение относительно фундаментального для поэмы понятия, потому что единственный раз «тошнота» с ее производными возникает в логике отрицания: «Мы все как бы пьяны, только каждый по-своему, один выпил больше, другой меньше. И на кого как действует: один смеется в глаза этому миру, а другой плачет на груди этого мира. Одного уже вытошнило, и ему хорошо, а другого только еще начинает тошнить. А я — что я? Я много вкусил, а никакого действия, я даже ни разу как следует не рассмеялся, и меня не стошнило ни разу. Я, вкусивший в этом мире столько, что теряю счет и последовательность, — я трезвее всех в этом мире…» (с.113). Во-первых, единственный раз в тексте «смех» и «тошнота» даны как прямая оппозиция. Во-вторых, «исповедь алкоголика» заканчивается парадоксальным заявлением («…я трезвее всех на свете…»), но парадокс снимется сразу, как только мы поставим этот отрывок в параллель к начальному: «Ведь в человеке не одна только физическая сторона….» Иначе говоря, тошнило героя только с «физической стороны», а с духовной — никогда, т. е. ему ни разу не стало «хорошо», потому что он «трезвыми» глазами смотрел на мир «вблизи и издали, снаружи и изнутри» (с.113). Наконец, именно в третьей части проясняется и «сверхдуховная», мистическая сторона.
«Тошно» в значении «мучительно, тоскливо, несносно» передается черед ряд действий. Одно из значений «тошно» можно передать фразеологическим оборотом «не находить себе места». Веничка «не находит себе места» в прямом смысле и мечется сначала в поисках «потерянного рая» — во имя спасения души, а затем бежит туда, куда указывал Дмитрий Пожарский — во имя спасения своей жизни. Герою и мучительно, и тяжело, и тоскливо, и несносно, потому что ему осталось немного: «утром — стон, вечером — плач, ночью — скрежет зубовный» (с.113–115).
«Петушки — Садовое кольцо» — это начало финального акта трагедии инобытия. Здесь значим образ кольца / круга как геометрической фигуры, символизирующей дьявольское начало. Вместо рая Петушков герой попадает в ад Москвы, символом которой предстает Кремль. В этой же логике — стилистический повтор со знаменательными изменениями: вначале «Иди, Веничка, иди» — теперь «Беги, Веничка, хоть куда-нибудь, все равно куда» (с.154).
Кремль — особо значимое, символическое понятие. Начальная фраза поэмы восстанавливает синтаксис пушкинской «маленькой трагедии»: «Все говорят: нет правды на земле. / Но правды нет — и выше» — «Все говорят: Кремль, Кремль». Через опознаваемый пушкинский синтаксис вводится потаенный мотив «правды» и прописанный в тексте мотив того, что «выше». Убегая от четверых, он, наконец, видит Кремль, символ того мира, который, как твердо знает писатель, для него «посторонний»: «…я знаю — умру, так и не приняв этого мира, постигнув его вблизи и издали, снаружи и изнутри постигнув, но не приняв» (с.150). Веничка и погибает недалеко от Кремля, олицетворявшего советское сознание.
Антиномия на лексическом уровне экстраполируется на сюжетный. Трехчастность предполагает последовательное линейное развитие с определенной «рифмовкой» первой и третьей части. На лексическом уровне эта соотнесенность сохраняется: «иди» — «беги». Но смысл ее «антиномичен».
С другой стороны, «интересно бы хоть обозначить ту кривую, по которой движется автор-повествователь. Скорее всего, это лента Мебиуса»:[108] движение как бы по кругу, но именно как бы, т. к. Мебиусова лента демонстрирует невозможность прийти к той точке, с которой начал. Первая глава поэмы ключевым словом имеет Кремль, который находится в «заколдованном месте» и для героя абсолютно «ненаходим»: «когда я ищу Кремль, я неизменно попадаю на Курский вокзал» (с.18). Именно отсюда начинает свой путь Веничка, конечная цель которого — Петушки. Но попадает не в «свет», а в «тьму», т. е. возвращается в Москву, но не на точку начала, Курский вокзал, а на точку первоначальной ненаходимости — Кремль. Если учесть, что топос у Ерофеева открыто символичен, то мы во втором случае — «мебиусовом» сюжете — имеем нечто «антиномичное» первому, исконно мифологичному трехчленному сюжету. Формула архаического сюжета: страдания (поношения) — смерть (несчастье) — воскресение (победа, триумф). Именно в силу своей универсальности и оптимистичности трехчленный сюжет просуществовал так долго. При этом описание Петушков, которое напоминает райский пейзаж, ассоциируется со светом, с царицей и с Божьим благословением. Тьма, обступившая героя на подступах к Москве, обдала его холодом и темнотой. Москва здесь не имеет собственного имени, она дана как «не Петушки! Если Он навсегда покинул мою землю, но видит каждого из нас, — Он в эту сторону ни разу и не взглянул. А если Он никогда земли моей не покидал, если всю ее исходил босой и в рабском виде, — Он это место обогнул и прошел стороной» (с.117). И, наконец, знаменательная последняя фраза: «Я не знал, что есть на свете такая боль, и скрючился от муки. Густая красная буква „Ю“ распласталась у меня в глазах, задрожала, и с тех пор я не приходил в сознание, и никогда не приду» (с.119). Будущее время последнего глагола весьма знаменательно: оно отрицает третью часть «христианской» формулы сюжета. Таким образом, один тип сюжета, заявленный в тексте, оказывается «антиномией» другому типу сюжета, реализованному в тексте.
Композиция первой части, строящейся довольно строго на обрамлении начального парадокса-абсурда и финального риторического восклицания, написанного ритмической прозой «в духе Ивана Тургенева», нарушается во второй части: пародийное снижение истории не имеет ритмического обрамления и лишено прорывов сквозь видимую реальность. Третья часть, соединив и сконцентрировав мотивы тоски и смеха-хохота, преобразовала и план «выше». Здесь нет диалогов с ангелами, но есть обращение к Богу, оставшееся безответным. Эта «безответность» порождает ситуацию своеобразного диалога, где отсутствие ответа есть достаточно определенный ответ: «Весь сотрясаясь, я сказал себе: „Талифа куми!“. То есть встань и приготовься к кончине. Это уже не „Талифа куми“, то есть „встань и приготовься к кончине“, — это лама савахфани, то есть „для чего, Господь, Ты меня оставил?“» (с.118). Господь его оставил для того, чтобы он никогда не приходил в сознание и не понимал, что он — «посторонний» как для людей, так и «для тех, кто выше».
Но тот же принцип антиномии сохраняется и на еще более высоком уровне, где вырисовывается модель мира, заложенная в жанре. В одном из первых изданий ерофеевский текст появился под жанровым подзаголовком «роман-анекдот», предполагающим смеховую реакцию, и только позже стал издаваться как поэма. Эти жанровые обозначения не просто типологически несводимые, но даже, можно сказать, противоироничные. Заявленная сразу как путешествие в поисках своего «я», поэма не «состоялась» как жанр, ибо герой не достиг цели, а сюжет приводит его не туда, куда он хотел, а туда, куда он не хотел, т. е. «строго антиномично». Как тип героя, Веничка, безусловно, более романный, чем поэмный, и «человеколюбивый убийца» Раскольников как тип романного героя ему ближе, чем Каин или Манфред, классические герои жанра поэмы. В тексте в качестве жанровой компоненты упоминается и философское эссе, идеальным образцом которого служит «Миф о Сизифе. Эссе об абсурде» Камю. Коллаж не только стилевой, но и жанровый, ибо герой — и «посторонний», и дурак, и демон как падший ангел, и пустомеля как сниженный вариант Шахразады, рассказывающий «историю в картинках» Семенычу и свою душу нам, читателям. Иначе говоря, герой, причастный как русской культуре, так и западной, как земле — русской, французской, Помпееям, Геркулануму, так и «выше» — ангелам-спасителям и смеющимся ангелам, подобным хохочущим над смертью детям. Тоска и одиночество героя в первой части сменились смехом, дьявольски объединившим его с «историческими личностями» в гоголевском определении этого понятия, и завершились хохотом сил «выше» его. Так, Веничка оказывается «посторонним» и силам, которые «выше» его.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Литературный текст: проблемы и методы исследования. 7. Анализ одного произведения: «Москва-Петушки» Вен. Ерофеева (Сборник научных трудов)"
Книги похожие на "Литературный текст: проблемы и методы исследования. 7. Анализ одного произведения: «Москва-Петушки» Вен. Ерофеева (Сборник научных трудов)" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Сборник - Литературный текст: проблемы и методы исследования. 7. Анализ одного произведения: «Москва-Петушки» Вен. Ерофеева (Сборник научных трудов)"
Отзывы читателей о книге "Литературный текст: проблемы и методы исследования. 7. Анализ одного произведения: «Москва-Петушки» Вен. Ерофеева (Сборник научных трудов)", комментарии и мнения людей о произведении.