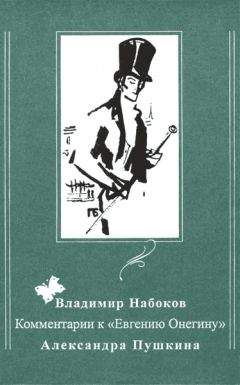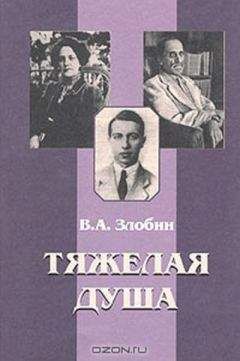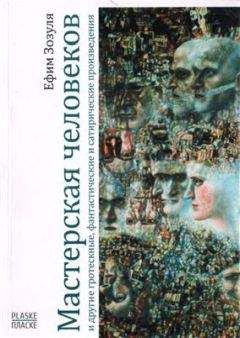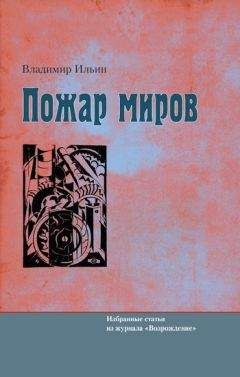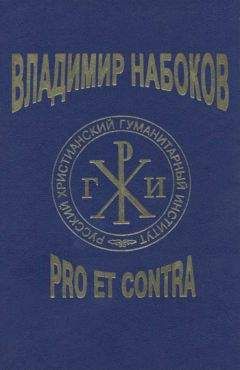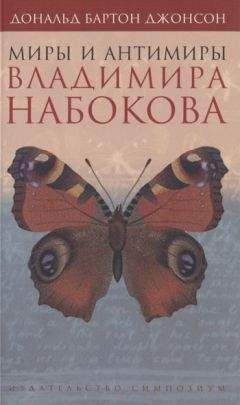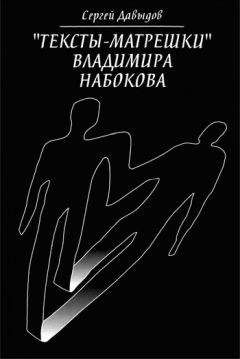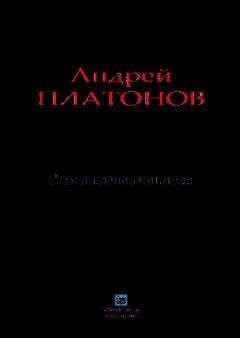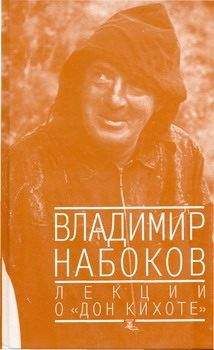Борис Аверин - Владимир Набоков: pro et contra
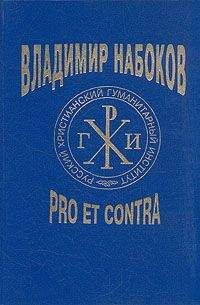
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Владимир Набоков: pro et contra"
Описание и краткое содержание "Владимир Набоков: pro et contra" читать бесплатно онлайн.
В первый том двухтомника «В. В. Набоков: pro et contra» вошли избранные тексты В. Набокова, статьи эмигрантских критиков и исследования современных специалистов, которые могут быть полезны и интересны как для изучающих творчество В. Набокова, так и широкого круга читателей.
Но если так, то вся поэзия в каком-то смысле местополагательна: попытаться определить свое место по отношению к вселенной, заключенной в сознании, — это бессмертное стремление. Руки сознания тянутся вперед и ищут наощупь, и чем они длиннее, тем лучше. Щупальца, а не крылья — вот естественные признаки Аполлона. Вивиан Дамор-Блок, моя философическая подруга, в последние годы говаривала, что тогда как ученый видит все, что происходит в точке пространства, поэт чувствуют все, что происходит в точке времени. Погрузившись в размышления, он постукивает по колену карандашом, своей волшебной палочкой, и в это самое мгновение машина (с нью-йоркскими номерами) проезжает по дороге, ребенок барабанит в соседскую дверь, старик зевает в туманном туркестанском саду, на Венере ветер несет пепельно-серую песчинку, некий доктор Жак Хирш в Гренобле надевает очки для чтения, и происходят еще триллионы подобных пустяков — все вместе образуя мгновенный и сквозной организм событий, ядро которого — поэт (сидящий в кресле в Итаке, штат Нью-Йорк). В то лето я был еще слишком молод, чтобы сколько-нибудь осознать «космическую синхронизацию» (снова цитирую моего философа). Но я все же, по крайней мере, понял, что человек, надеющийся стать поэтом, должен обладать способностью думать о нескольких вещах одновременно. Во время вялых шатаний, которые сопровождали сочинение первого стихотворения, я столкнулся с деревенским учителем, пылким социалистом и хорошим человеком, чрезвычайно преданным моему отцу (явление которого я снова рад приветствовать), всегда с тугим букетом полевых цветов, всегда улыбающимся и всегда потным. Вежливо обсуждая с ним неожиданный отъезд моего отца в город, я отмечал одновременно и с равной ясностью не только его вянущие цветы, развевающийся галстук и угри на мясистых завитках ноздрей, но также доносящийся издалека монотонный маленький голос кукушки, и промельк яркой бабочки Королева Испании, садящейся на дорогу, и всплывшее в памяти впечатление от картин (портреты увеличенных сельскохозяйственных вредителей и бородатых русских писателей) в хорошо проветренных классах деревенской школы, где я бывал раз или два; и — если продолжать это перечисление, едва ли достойно передающее неземную простоту и легкость того процесса — колебание какого-то совершенно неважного воспоминания (о потерянном педометре) вырвалось из соседней клетки мозга, привкус травинки, которую я жевал, смешался с голосом кукушки и взлетом нимфалиды; и все это время я полно, ясно ощущал свое всеобъемлющее сознание.
Он улыбнулся и поклонился (с порывистостью русского радикала), сделал два шага назад, повернулся и весело пошел своей дорогой, а я снова поймал нить стихотворения. За то короткое время, пока я был занят другим, что-то, кажется, случилось с уже нанизанными мною словами: они выглядели не совсем такими блестящими, как до перерыва. Мне на минуту почудилось, что я занимаюсь ерундой. К счастью, этот холодный огонек критического восприятия вскоре исчез. Жар, который я пытался описать, снова овладел мною и вернул своего медиума в иллюзорную жизнь. Ряды слов, выстроенные для смотра, снова были такими сияющими — грудь колесом и аккуратные мундирчики — что я приписал воображению тот сбой в рядах, который недавно заметил краем глаза.
3Помимо доверчивой неопытности молодой русский версификатор должен был справиться с одним препятствием особого рода. В отличие от богатого словаря сатирической или повествовательной поэзии русская элегия страдала тяжелой формой словесной анемии. Только очень опытные руки могли заставить ее выйти за рамки своего скромного образца — бледной французской поэзии XVIII века. Правда, в мое время одна новая школа как раз занималась разрыванием старых размеров, но все же именно к ним консервативный новичок обращался в поисках нейтрального инструмента — может быть, чтобы рискованные формальные приключения не отвлекали его от простого выражения простых чувств. Форма, впрочем, мстила. Довольно однообразные узоры, в которые русские поэты начала XIX века заплели податливую элегию, привели к тому, что определенные слова или типы слов (например, русские эквиваленты fol amour или langoureux et rêvant[752]), сцеплялись снова и снова, и последующие лирические поэты не могли избавиться от них на протяжении целого столетия.
В особенно навязчивой модели, свойственной четырех-шестистопному ямбу, длинное, извивистое прилагательное всегда занимает первые четыре или пять слогов последних трех стоп в строке. Вот хороший тетраметрический пример — ter-pi bes-chis-ien-ni-e mu-ki (en-dure in-cal-cu-la-ble tor-ments). Молодые русские поэты раз за разом с фатальной легкостью соскальзывали в эту манящую бездну слогов, для иллюстрации чего я выбрал слово beschislennie только потому, что оно хорошо переводится; подлинными фаворитами были такие типично элегические компоненты, как задумчивые, утраченные, мучительные и так далее, все с ударением на втором слоге. Несмотря на свою длину, слова такого рода имеют всего одно собственное ударение и, следовательно, предпоследний метрический акцент строки приходился на обычно безударный слог (ны в русском примере). Благодаря этому возникал приятный порыв, что, впрочем, было уж очень известным приемом для прикрытия банальности смысла.
Простодушный новичок, я попадал во все ловушки, расставленные поющим эпитетом. Не то что бы я не боролся. На самом деле, я очень старательно работал над своей элегией, бесконечно напрягаясь над каждой строчкой, выбирая и отвергая, катая слова на языке с остекленелой торжественностью чайного дегустатора — и все же оно неминуемо наступало, это отвратительное предательство. Рама влияла на картину, кожура определяла форму плода. Банальный порядок слов (короткий глагол или местоимение — длинное прилагательное — короткое существительное) порождал банальную беспорядочность мысли, и некоторые фразы вроде poeta gorestnie gryozi, что можно перевести, расставив ударения, как «the poet's melancholy daydreams», фатально приводили к рифмованной строке, оканчивавшейся на розы, или березы, или грозы, так что определенные чувства связывались с определенным окружением не свободной личной волей, а линялой лентой традиции. И все-таки, чем ближе мое стихотворение подходило к завершению, тем сильнее была моя уверенность в том, что все, видимое мне, будет увидено и другими. Когда я сосредотачивал взгляд на почкообразной клумбе (и замечал одинокий розовый лепесток, лежавший на суглинке, и маленького муравья, исследовавшего его увядший край) или рассматривал светло-коричневую диафрагму березового ствола, с которого какой-то хулиган содрал тоненькую, цвета соли с перцем кору, я и в самом деле верил, что все это мой читатель различит сквозь магический покров слов, вроде утраченные розы или задумчивые березы. Мне не приходило тогда в голову, что эти бедные слова не только не имели никакого отношения к покрову, но были так непрозрачны, что в действительности образовывали стену, и в ней можно было различить только побитые вкрапления из больших и малых поэтов, которым я подражал. Годы спустя, на убогой окраине иностранного города, я видел забор, доски которого были принесены из какого-то другого места, где они, очевидно, ограждали стоянку бродячего цирка. Какой-то разносторонний зазывала нарисовал на нем животных; но тот, кто снимал доски и потом снова их сколачивал, был, должно быть, слеп или безумен, потому что теперь на заборе видны были только разъединенные фрагменты (некоторые даже вверх ногами) — чья-то рыжевато-коричневая ляжка, голова зебры, слоновья нога.
4С внешней точки зрения мои напряженные труды сопровождались рядом неопределенных действий или положений: я ходил, сидел, лежал. Каждое из них в свою очередь распадалось на фрагменты, в которых пространственный аспект не был значим: на стадии хождения, например, я мог направляться в глубину парка, а в следующее мгновение уже бродить по комнатам дома. Или, если взять стадию сидения, я часто внезапно замечал, как убирают тарелку с чем-то, что я даже не помнил как выбрал, а моя мать, левая щека которой подергивалась, как всегда, когда она волновалась, пристально наблюдает со своего места во главе длинного стола за моей унылостью и отсутствием аппетита. Я поднимал голову, чтобы объясниться — но стола уже не было, и я сидел один на придорожном пне, ручка рампетки с ритмичностью метронома чертила дугу за дугой на коричневатом песке — земляные радуги, в которых глубина штриха передавала разные цвета.
Когда я бесповоротно решил закончить стихотворение или умереть, то впал в самый настоящий транс. Без малейшего удивления я находил себя на кожаном диване в холодной, затхлой, малопосещаемой комнате, бывшей раньше кабинетом моего деда. Я лежал распластавшись на этом диване, в каком-то рептильном оцепенении, одна рука свисала, так что костяшки пальцев слегка касались растительного орнамента ковра. Когда в следующий раз я выходил из этого транса, зеленоватая растительность была по-прежнему на месте, моя рука по-прежнему свисала, но теперь я был распростерт на старых мостках, и кувшинки, которых я касался, были настоящими, а копытообразные округлые тени ольховых листьев на воде — возвеличенные чернильные кляксы, преувеличенные амебы — ритмично пульсировали, высовывая и втягивая темные ложноножки, чьи округлые края при сокращении распадались на смутные и текучие пятна, а потом снова соединялись, чтобы придать новую форму окончательному слову, которое я ощупью искал. Я возвращался в свой частный туман, а когда снова всплывал, поддержкой моему вытянутому телу становилась низкая скамья в парке, и живые тени, в которые была погружена моя рука, теперь двигались по земле среди фиолетовых оттенков, сменивших водянисто-черные и зеленые. Так мало в том состоянии значили обыденные формы существования, что я не был бы удивлен, выйдя из этого туннеля в парке Версаля или в Тиргартене, или в Национальном лесу секвой. И наоборот, когда былой транс приключается сейчас, я вполне готов оказаться, когда очнусь, высоко на дереве, над пятнистой скамейкой моего детства, живот прижат к толстой удобной ветке, одна рука свисает между листьев, по которым проходят тени от других листьев.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Владимир Набоков: pro et contra"
Книги похожие на "Владимир Набоков: pro et contra" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Борис Аверин - Владимир Набоков: pro et contra"
Отзывы читателей о книге "Владимир Набоков: pro et contra", комментарии и мнения людей о произведении.