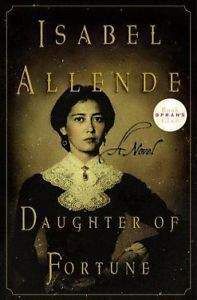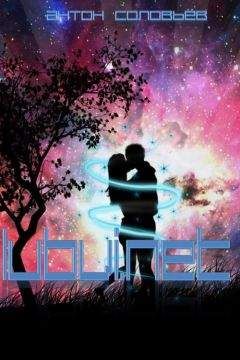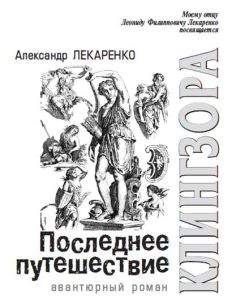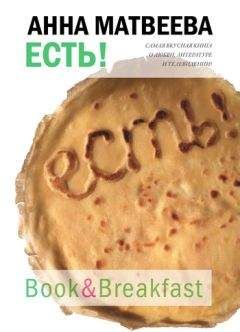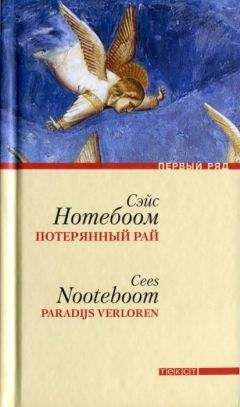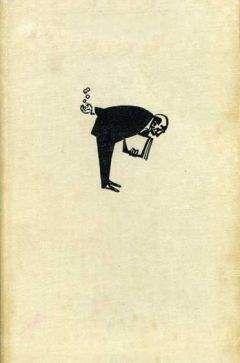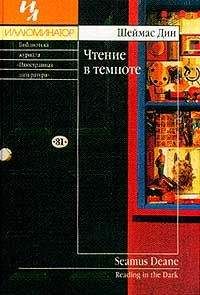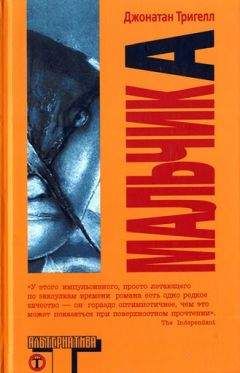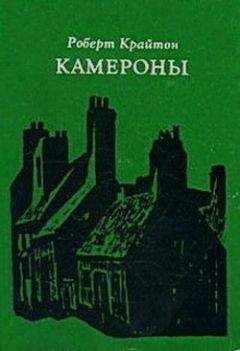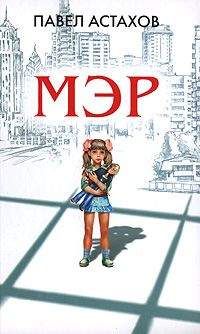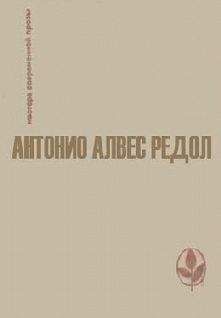Гурам Дочанашвили - Одарю тебя трижды (Одеяние Первое)

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Одарю тебя трижды (Одеяние Первое)"
Описание и краткое содержание "Одарю тебя трижды (Одеяние Первое)" читать бесплатно онлайн.
Роман известного грузинского прозаика Г. Дочанашвили — произведение многоплановое, его можно определить как социально-философский роман. Автор проводит своего молодого героя через три социальные формации: общество, где правит беспечное меньшинство, занятое лишь собственными удовольствиями; мрачное тоталитарное государство, напоминающее времена инквизиции, и, наконец, сообщество простых тружеников, отстаивающих свою свободу в героической борьбе. Однако пересказ сюжета, достаточно острого и умело выстроенного, не дает представления о романе, поднимающем важнейшие философские вопросы, заставляющие читателя размышлять о том, что есть счастье, что есть радость и какова цена человеческой жизни, и что питает творчество, и о многом-многом другом.
В конце 19 века в Бразилии произошла странная и трагическая история. Странствующий проповедник Антонио Консельейро решил, что с падением монархии и установлением республики в Бразилии наступило царство Антихриста, и вместе с несколькими сотнями нищих и полудиких адептов поселился в заброшенной деревне Канудос. Они создали своеобразный кооператив, обобществив средства производства: землю, хозяйственные постройки, скот.
За два года существования общины в Канудос были посланы три карательные экспедиции, одна мощнее другой. Повстанцы оборонялись примитивнейшим оружием — и оборонялись немыслимо долго. Лишь после полуторагодовой осады, которую вела восьмитысячная, хорошо вооруженная армия под командованием самого военного министра, Канудос пал и был стерт с лица земли, а все уцелевшие его защитники — зверски умерщвлены.
Этот сюжет стал основой замечательного романа Гурама Дочанашвили. "До рассвета продолжалась эта беспощадная, упрямая охота хмурых канудосцев на ошалевших каморрцев. В отчаянии искали укрытия непривычные к темноте солдаты, но за каждым деревом, стиснув зубы, вцепившись в мачете, стоял вакейро..." "Облачение первое" — это одновременно авантюрный роман, антиутопия и по-новому прочитанная притча о блудном сыне, одно из лучших произведений, созданных во второй половине XX века на территории СССР.
Герой его, Доменико, переживает горестные и радостные события, испытывает большую любовь, осознает силу добра и зла и в общении с восставшими против угнетателей пастухами-вакейро постигает великую истину — смысл жизни в борьбе за свободу и равенство людей.
Отличный роман великолепного писателя. Написан в стиле магического реализма и близок по духу к латиноамериканскому роману. Сплав утопии-антиутопии, а в целом — о поиске человеком места в этой жизни и что истинная цена свободы, увы, смерть. Очень своеобразен авторский стиль изложения, который переводчику удалось сохранить. Роман можно раздёргать на цитаты.
К сожалению, более поздние произведения Гурама Дочанашвили у нас так и не переведены.
Кого только не было на Одеянии, были все, кого видел, встречал Доменико, даже бедные, горемычные женщины — бабушка Уго, мать Эдмондо... И робко донесся из пламени: «...все спокойно...» — голос жалкого Леопольдино, замиравшего в страхе от каждого шороха, — стоял, опустив фонарь, и его стертые, сбитые ступни окружены были простеньким нимбом, и совсем по-иному возглашал установленные слова: «...все гениаальнооо...» — спесивый каморский страж Каэтано, его крик проникал даже в надежно запертый покой Бетанкура, того, что носил на теле ящерицу, а на коленях нежил кошку Аруфу — пока был жив, разумеется, а рядом тлел ближайший подручный его, мишурный полковник Федерико Сезар, обращались в дым гнусавый Наволе и капрал, изогнутый пинком, счетовод Анисето, любивший лето, а зиму — нет, нет; горели слуги, служители, стража, охрана, солдаты и тугоухие музыканты, заглушавшие крики из пыточных, палачи, генералы, головорезы, бандиты — Рамос и Хорхе, Ригоберто, Габриэл, Скарпиозо и Чичио, утренние девки и продажные аристократки, запертый в клетку Деметре и придушивший его бескостный Кадима — личный палач Бетанкура, самовлюбленный карлик Умберто, выявители-уличители, мелкие, крупные и главный — Эстебан Пепе, выдаваемый за глухонемого, сам жестоко уличенный каатингой, за все заплативший сполна, горела разделявшая ложе маршала Мерседес Бостон, крашенная в сине-красный цвет, ненастоящая вовсе — подобие идола Молоха, и тлела ради нее стучавшая по клавишам вялая Стелла, горела энергичная Сузи, искавшая риска в любви... Горел цвет Каморы — мошенники разного рода, калибра и масти, ценным подарком отмечавшие мерзостный день рождения Мерседес Бостон, улетучились с дымом великий живописец, ничтожный Грег Рикио, несгибаемый якобы, и великий изобретатель Ремихио Даса, засекреченный, и придворный тенор, стеблегорлый Эзекиэл Луна, и прочие, прочие — сановники, одетые нищими, и убогие нищие в роскошных нарядах. С омерзеньем смотрел Доменико, как сгорали и тлели каморцы — жестокие, злобные, алчные, но в слепящем, зловещем сверканье пылавших камней три камня пылали особо, среди уймы мерзавцев надеждой светил синий яхонт Петэ-доктора, сердечного, доброго; жалостно корчился желтый янтарь, полудрагоценный камень Росы, утренней девки, что оставила в благодарность ему сорок грошей, и сиял чернотой самый глубокий, таинственный камень — с достоинством пылал один из двух агатов — старший брат Александро, Мичинио... Но разве могли осилить, подавить бездушный лютый блеск стольких бандитов, мерзавцев три камня, и Доменико, скиталец, горестно съежившись, взмокший, смотрел, как лопались с треском каменья — настоящие и поддельные, и, лихорадочно отыскав глазами второй агат, уставился на черный камень настойчивым, милосердия жаждущим взглядом и тут осознал горько и радостно, что, кроме родного селения, и у него, у скитальца, был свой город — белый Канудос. Ведь у нас... у нас у всех есть свой город, только не знаем порою об этом, есть, не может не быть, а если и нет, наверное, будет — белоглинный, белизны безупречной, у самой реки, по пологому склону восходящий рядами, под косыми лучами раннего солнца — сияющий... Канудос, в тускло призрачном свете луны нежно мерцающий, сонный... Пылали, сгорая, вакейро, небывало счастливые, небывало свободные; огонь охватил и второй агат — вспыхнул крупный, мрачный, черным сияньем прекрасный — конселейро, главный человек в Канудосе, суровый, прямой, головы не клонивший Мендес Масиэл. И сразу разом запылали все камни, все, кроме большого, того одного, лиловато мерцавшего; зеленовато сверкал изумруд, дробилась голубизна бирюзы, истекал желтизной янтарь, жарко алел рубин, переливался жемчуг из далеких морских глубин, и текла прохладная река канудосцев, уносила в океан весть о них, об омытых в ее вечно новых волнах канудосцах, а здесь, в Высоком селении, радужно, ярко и гордо сгорало Сокровенное Одеяние — изначальное, первое; и сизым дымом возносилась весть о вакейро — горели, пылая, барабанный маг и великий кузнец Грегорио Пачеко и Сенобио Льоса, одноухий, отважный Того, что остался в сертанах, и оставшийся с ним и ради него на верную смерть его молчаливый брат, и беззвучно горел третий из братьев, Пруденсио, не утоливший жажды мщения... Горели истинные вакейро — Иносенсио, Авелино, незаметные их матери, сестры и жены; пылал единственный из мужчин, приговоренный невольно к спасению, Рохас, — безмолвно удалялись от родных глаз стоявшие на плоту старики и дети... А когда загорелись алмазы, сжалось сердце у Доменико, подался вперед, впился в пламя глазами — горели великие канудосцы, великие, великие Зе Морейра, Мануэло Коста, Жоао Абадо, Старый Сантос и дон Диего — пылали великие канудосцы!
И только один камень не поглощался огнем в ярой пляске, остальные горели — и Беглец, ночью пришедший в селенье, и его удивительные истории — о масаи, о Предводителе, горели потешники — женщина, во тьму кидавшая факелы, и алчно взиравший на нее Зузухбайа — темный клоун в белилах; горели даже люди, обступившие сейчас костер, обитатели Высокого селения, на лицах которых трепетали блики огня; казалось, даже они сгорели, истлели в поглотившем Одеяние пламени — люди земли, пахари, сеятели, плугари, жнецы; сгорели все — оставленные вдалеке и бывшие рядом; и только Большой аметист упрямо сверкал, и не удавалось огню подобраться к нему, объять, одолеть... Знал, прекрасно знал скиталец, чей был камень, этот единственный, и он рванулся из круга, клещами стиснуло горло, перехватило дыхание... И, озаренный полыхавшим костром, убегал он и, казалось, на спине уносил огонь, бежал, подавшись вперед, низко пригнувшись, безудержно бежал к реке в лесной глубине, бежал, а в груди беззвучно клокотало рыданье — Анна... Мария... Ааннаа-Мариияаа!
Пробирался сквозь тьму загнанно, задыхаясь, натыкаясь на деревья, стеная, на ощупь, наугад пробирался вперед. Листья били в лицо — мягкие, гибко-упругие ранней весной, будто давали пощечины, а под ногами сочно шуршала листва прошлых лет, сначала увядшая, потом впитавшая лесные соки земли. Доменико стремился к потоку, направляясь на шум воды, для чего он шел, что там искал, что смутило и сбило его, чего хотел злосчастный скиталец, неужели и здесь, в Высоком селении, не сужден был покой, даже ночью, не суждена была тихая жизнь — сеять, сажать, отдыхать. Неужели обречен был вечно скитаться, искать... Да, разумеется... И он спустился к реке, едва различимой во тьме, по призрачно светлевшей тропинке, припал на колено и опустил руку в прохладный поток... Замер, затаил дух, вслушиваясь во что-то далекое, привносимое вечно новой водой... И внезапно зачерпнул со дна ил, процедил сквозь пальцы, отжал и крепко размял, примешал землю и, окунув снова в воду, смял... Бережно держал он в руке смесь, размякшую глину, — вроде бы слякоть, но таила она в себе столько возможного, покорно-послушная глина и при этом непослушная, непокорная... И хотя не видел во мраке, упрямо смотрел на глину в горсти, чьей-то рукой уже смятую, сбитую, вроде бы податливую, но нет, увы. Смял, скатал, вылепил нелепую, наверное, страшную женщину — не видать было ничего... Но она, эта уродина, была как надежда; зачем, почему — не ведал, но упорно наобум приделал женщине голову, руки. А в лесной темноте прокричала вдруг птица, и, будто застигнутый в чем-то дурном, женщину-глину в страхе бросил в поток, и безжалостно так, словно она была виновата в жутком крике, а в том месте, куда упала женщина-глина, река засветилась, — побледнел, побелел Доменико, и как странно, как по-разному взирали они друг на друга, изничтоженный ужасом, он не мог оторвать своих попранных глаз от водяницы — в реке на коряге, растопырившей корни, колыхавшей их призрачно, словно злобное чудище — руки кривые, сидела женщина, ее светлое тело желтовато сияло, лиловато мерцало, под зловещими, злобными пальцами тяжко струились грузные волосы, и что было страшнее всего — глядела в упор, недоверчиво, и глаза ее жуткие зеленым и желтым лучились. Что нужно было скитальцу в этот час у потока, что пригнало его, что заставило... Впрочем, не его вина, всеми нами движет иной раз чужая воля и сила, но не знаем этого сами порой. И встал Доменико, не знал, отвернуться от жути или лучше смотреть, — нет уж, лучше к ней лицом быть, и застыл, не дыша, безмолвный как лес; но подул ветерок, и в лесу шевельнулись неясные тени, тень скользнула черно по стволу... Отшатнулся скиталец, едва не упал, удержался, однако, огляделся — было темно, непроглядно, но в лесной глуши таилось столько незримо враждебного... Протер глаза и упрямо всмотрелся во мрак, и страшной, жуткой была тишина — необъятная, всеобъявшая... Все вобрала в себя тишина — и злобно бурчливый шелест потока, и ветерок, обширный, просторный и все же шнырявший в дремучем лесу, среди веток, гибкой, юркой змеей, и грохочущий гул, подавлявший, глушивший, была в ней угроза, глухой чернотой придавившая плечи, но больше всего наводила жуть безучастность тишины — грозное, особенное неведение. Прижался к стволу, влепился в него, затаился и будто приободрился, как снова вздрогнул испуганно — за деревом поджидал его кто-то. «Ага-а, явился, скиталец, сам, своими ногами пришел, не уйдешь теперь!» — как доволен был, как злорадствовал, но кто, кто это был? Не решился взглянуть Доменико, подался назад, попятился, не отрывались ноги, прибитые страхом к земле, припал к другому стволу, обернулся и обмер — рядом таился кто-то еще... за каждым деревом кто-то стоял... Осажденный, обвив руками голову, сгорбившись, дрожал с головы до пят, тряслись плечи, руки, колени, но страшнее всего было спине. С чернеющих верхушек впивались, пронзали чьи-то взгляды, невидимых, неведомых, и надвигались, грузно опускались все ниже, давили. Не вынес, сорвался с места, устремился, спасаясь, к потоку, ошалело кинулся в воду и на дне различил белый камень — светлел озаренно, но, прежде чем радость заглушила бы страх, на коряге возникла та женщина, лиловатая, желтая! — и опять посмотрела в упор; удивительно ясно и смутно он видел, как кривились ее губы в улыбке, и мерцали глаза, зеленея, желтея, и струили лучи ледяные, и кто-то легонько ударил ошалевшего в спину, стиснул пальцами ребра, собираясь поднять, и, противясь, Доменико рванулся, но тщетно, сами ребра его оковали, холодные ребра, обхватили, сдавили, душили. И он прыгнул на берег, оступился, кое-как удержался и укрылся за деревом, задыхаясь, обнял руками, прижался, свежо было в лесу, кора холодила, холод разлился по телу ознобом, отпрянул — за деревом рядом кто-то стоял, и тут кто-то был! Снова рванулся к полянке, выбежал на середину, но все равно вокруг и рядом что-то всходило, подступало, нестерпимо вздымалось, разрасталось и ширилось, раздуваясь, навалилось на все, слилось в единое, неодолимое — страх! Страх — цветок ночи. Он пал на колени, круто согнулся, зарылся лицом в траву, вытянул ноги и, распластавшись, в отчаянии вырвал траву, запустил пальцы во влажную землю, ожесточенно выскреб ее и отбросил подальше: исступленно копал себе яму — укрыться, и вскинулся разом, так резко, будто стегнули — издали, из лесу, колыхаясь, надвигался, пробивая тьму, свет. «Идет, он идет...» И не видя спасенья, неистово терся щекой о землю и снова лихорадочно скреб. Кто «он» — не ведал, наверное, страшное... чудище... «Идет, он идет!» Повалился ничком, заслонил руками голову — и теперь страшнее всего было затылку. «Идет, пришел...» Смял его страх, и руки безвольно упали на землю, и дрожь унялась — смутно доносились шаги; тяжко вдавленный в землю, он лежал в ожидании удара, сокрушительно беспощадного, но и ожидание скоро иссякло, и опять-таки выручил страх — и вновь ощутил ненадолго затылок, и вновь навалился дурман, и он уносился в туманную даль, исчезал, расплывался, оставив бессильное тело на изрытой земле... Отрадно было исчезновенье, и все же очнулся и от страха снова налился свинцом, и два слова — всего два слова — звеняще перекатывались через него: «Пришел, пришел...» Хотел подняться — не смел... и лежал, уткнувшись в землю лицом, вбирая невольно запах ее, утешающий, содрогающий, и когда пришедший опустил на плечо ему руку, обожгло давно зажившую рану, и вспомнил Мичинио, слова его о том, что любовь движет землей, — вспомнил и с надеждой, с верой воздел голову — да, отец был... И во тьме виделся пятном. Доменико быстро присел, радость разлилась по иссякшим жилам, голова закружилась, упала на плечо. Посидел немного так, закрыв глаза, собираясь с силами, и опять разволновался — отец отошел шага на два и смотрел на него испытующе, и Доменико хотелось услышать что-то нужное, непременно чтоб успокоило, — слова хотел, жаждал нескольких слов, подвинулся к отцу и, коснувшись легонько его колена, вскинул глаза, спросил моляще:
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Одарю тебя трижды (Одеяние Первое)"
Книги похожие на "Одарю тебя трижды (Одеяние Первое)" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Гурам Дочанашвили - Одарю тебя трижды (Одеяние Первое)"
Отзывы читателей о книге "Одарю тебя трижды (Одеяние Первое)", комментарии и мнения людей о произведении.