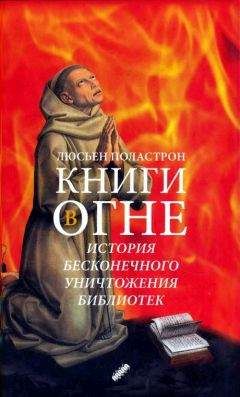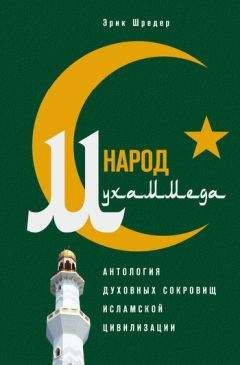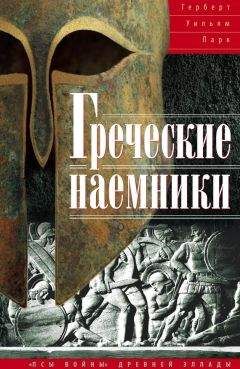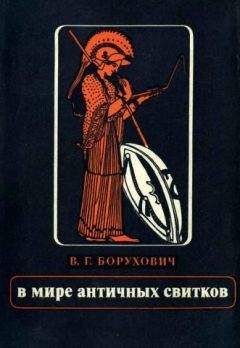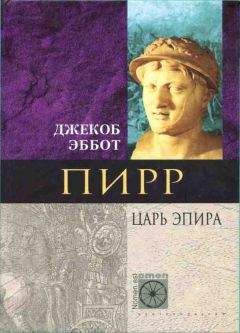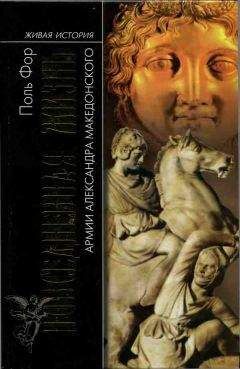Андре Боннар - Греческая цивилизация. Т.3. От Еврипида до Александрии.

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Греческая цивилизация. Т.3. От Еврипида до Александрии."
Описание и краткое содержание "Греческая цивилизация. Т.3. От Еврипида до Александрии." читать бесплатно онлайн.
Последняя из трех книг известного швейцарского ученого А. Боннара, завершающая его блестящее исследование греческой цивилизации. Третий том знакомит читателя с эпохой поздней античности — временем походов Александра Македонского, философии Аристотеля и Платона, драматургии Еврипида, ораторского искусства Демосфена. Это время выхода эллинской культуры за пределы Греции, расцвета науки и искусств в городе Александрии, с которой связаны многие открытия греков в механике, астрономии, географии, медицине. Заключают большой по охвату материал книги главы об александрийской поэзии, первом греческом романе «Дафнис и Хлоя», философе Эпикуре и его учении.
Один пример. В одном месте, довольно красивом, в четвертой песни «Аргонавтики» (известно, что такие места там редки!) аргонавты, выброшенные на берег Ливии, проводят в пустыне дни за днями без воды. Вдруг порыв ночного ветра приносит им таинственный шум, подобный звуку шагов на песке. Кое-кто из них идет взглянуть, что там такое, и Линкей, обладающий зорким взором, «думает, что видит Геракла, одного и очень далеко, совсем на краю безграничной равнины, как видят или как могут увидеть молодую луну сквозь туман». Сравнение прелестно само по себе, но оно не совсем удачно применено. Геракл и первый серп молодой луны немного не подходят друг к другу, для того чтобы быть объединенными таким образом; в конце концов сравнение не достигает цели и кажется приклеенным украшением. Вергилий возобновляет этот отрывок в «Энеиде» в песни о нисхождении Одиссея в Аид, в двух стихах, переведенных из Аполлония: «…и он узнал ее среди теней». Но нужно сначала процитировать по-латыни:
…agnovitque per umbras
Obscuram qualem primo qui surgere mense
Aut vidit aut vidisse putat per nubila lunam [87].
В роще блуждала огромной; троянский герой, едва только
Близ от нее оказался, ее распознал, среди мрака
Зримую смутно — какой в первый месяца день на восходе
Видишь иль мнишь, что увидел луну среди облачной дымки.
(«Энеида», кн. 6, с. 450–454, перевод В. Брюсова иС. Соловьева, М.—Л., 1933)
Но кого же Эней узнал среди теней (obscuram), как «могут увидеть молодую луну среди облаков»? Это не тяжеловесный Геракл, у которого никогда ничего не было от привидения или от мимолетного призрака, это бледная Дидона в миртовом лесу. Ценность образа несравнимо возрастает благодаря такому превращению. Тотчас же все становится на свое место, и поэтическую эмоцию не тревожит более несоответствие.
Поэзия Аполлония, я повторяю это, не есть творчество, целиком обращенное к прошлому; переменчивый гений александрийского поэта открывает какие-то перспективы. Это не пустяк — предвосхитить появление любовного романа, так же как появление определенной формы романтизма — романтической поэмы Вергилия.
ГЛАВА XVI
РАЙ ФЕОКРИТА
Феокрит. Поэзия празднеств. Греческая поэзия, да и вся литература были серьезны, глубоки. От Гомера до Аристофана. Да и сам Аристофан, как он ни паясничает, каких ни делает прыжков, какие ни отпускает шутки и ни смешит нас до слез, сам он серьезен. И именно эта глубокая серьезность позволяет ему делать его опасные прыжки и скачки под открытым небом без малейшей погрешности, без риска, в какую-то долю секунды, позволяет выйти из трудного положения не иначе, как невредимым, смеющимся и беззаботным.
Греческая литература, конечно, предполагала одобрение аудитории, доставление радости читателю. Через эту радость она хотела быть полезной коллективу, эффективной для его действий. Сама трагедия, главное литературное изобретение греков, сообщая знания об ужасах нашего человеческого существования, передавала в руки людей орудие мудрости, борьбы и освобождения. Греческая литература, по крайней мере пока существовала община, была таковой. Она была отражением человека как такового, сосредоточением энергии, имея в виду общие действия. Чем она никогда не была, так это чистым «дивертисментом», развлекательством, бессодержательностью.
Но вот теперь города-государства исчезли. В больших городах имеются только отдельные лица, которые преследуют, каждый на свой лад, индивидуальные интересы, которые ищут индивидуальных удовольствий. Литература становится одним из таких удовольствий. Предназначенным для тех, для кого отдых состоит в приятном саморазвитии. Для бедняков, для неграмотных не предлагается ничего значительного: военные парады, профессиональные певицы… И вот тем, кому хочется заниматься саморазвитием, Феокрит и предлагает свою рафинированную поэзию. Свою сельскую поэзию для горожан.
Феокрит пишет идиллии. Слово это значило под его пером и в его время только короткие поэмы, приблизительно в сотню стихов. Оставаясь кратким, Феокрит следует совету, не раз преподанному Каллимахом. Он знает меру своему собственному вдохновению, которое было бы быстро исчерпано, если бы поэту пришло в голову написать трагедию или эпопею.
Тем не менее, вдохновляясь также и в данном случае определенным внушением Каллимаха, Феокрит пробует написать несколько очень коротких эпических поэм. Единственная, которая ему вполне удалась, и единственная, которую я отмечу, — это «Киклоп». Феокрит, вновь обратившись к старому сюжету греческой мифологии, изображает в слегка реалистическом и юмористическом плане Полифема, влюбленного в нимфу Галатею. Это образ влюбленного увальня, над которым смеются девушки. Нужно все искусство Феокрита, чтобы сделать из этого смешного любовника, чья душа добродушного гиганта, полная нежности, вначале как бы придавлена огромным телом, трогательное существо, чтобы сохранить, удержавшись от смеха, который он возбуждает, только улыбку, чтобы тем же движением вызвать эмоцию, самую простую и самую верную. Кажется невероятно смелым, например, рискнуть заставить этого влюбленного говорить галантным языком эпохи, с его напыщенными, вычурными метафорами и его нелепыми образными выражениями, и продолжать это, вызывая в нас жалость и улыбку одновременно.
И вот мы слышим голос Полифема с одной из прибрежных скал, призывающего Галатею, невидимую среди играющих волн. Мы улыбаемся витиеватой речи, которой он думает привлечь свою красотку, — он отдал бы ей и душу и свой единственный глаз, который ему дороже всего: он желал бы, чтобы его мать произвела его на свет с плавниками — это ему позволило бы погрузиться в волны, где скрывается та, кого он любит. Эти штрихи, к тому же немногочисленные, трогают потому, что свидетельствуют о наивности того, кто пользуется этим языком лишь затем, чтобы нравиться.
Полифем еще более трогателен, когда он как бы просит извинения у своей красотки за свое безобразие — безобразие, которое он впервые осознал под влиянием любви. Это трогательно потому, что любовь, вместо того чтобы сделать его грубым и сильным, каков он и есть, переполняет его нежностью. Галатею он просит прийти посидеть в его хижине. Он говорит:
Если же сам я тебе покажусь уж больно косматым —
Есть и дрова у меня, и горячие угли под пеплом, — Можешь меня опалить…
…поцелуями руку осыпал,
Коль бы ты губ не дала!..
Он простодушен, он трогателен со своими подарками, которые он предлагает сделать ей:
…Одиннадцать юных оленей
С белою лункой кормлю я тебе, четырех медвежаток.
Только меня навести — сполна тебе все предоставлю.
. . . . . .
Белоснежных лилий принес бы,
Нежных бы маков нарвал с лепестками пурпурного цвета.
Лилии в стужу цветут, а в зной распускаются маки,
Так что не мог бы, пожалуй, я все это вместе доставить.
(Ôåîêðèò.Êèêëîï, ïåðåâîä Ì. Å. Ãðàáàðü-Ïàññåê; êí. Ôåîêðèò, Ìîñõ, Áèîí. Èäèëëèè è ýïèãðàììû, ñ. 57–58)
Таков Полифем со своей любовью, со своими песнями, проникнутыми поэзией. Можно проследить, как Феокрит включает в свое произведение каллимаховские принципы: он модернизирует миф реализмом и психологией эпохи; но в то же время он опережает их. Его Киклоп такой же пастух, как и другие, он уже более не мифическое существо, но простодушно влюбленный, как обыкновенный человек, земледелец, который мечтает:
Ах, захотеть бы тебе пасти мое стадо со мною,
Вкусный заквашивать сыр, разложив сычуги по корзинам!
(Òàì æå, ñ. 58)
Это реалистическая стадия модернизации мифа. Но эта стадия превзойдена, потому что этот влюбленный, этот земледелец — поэт, потому что его песнь преобразует мир, в котором он живет, предметы, окружающие его, его занятия, его чувства — в мир, где царит красота.
Вся поэма — это не что иное, как песнь, где минутами поэтические темы, следующие одна за другой, кажутся близки к тому, чтобы построиться в строфы. Но Феокрит ничего не сделал из этого: он позволяет потоку чувств изливаться чуть отличными друг от друга волнами. Однако мы захвачены лиризмом. Дело не в точном воспроизведении чувств и вещей, дело в том, что посредством наблюдаемого материала, посредством пережитого опыта любви — посредством данного — создается красота.
Белая ты, Галатея, за что ты влюбленного гонишь?
Ах! Ты белей молока, молодого ягненка ты мягче.
Телочки ты горячей, виноградинки юной свежее.
(Òàì æå, ñ. 56–57)
Вульгарное «данное» — не что иное, как незначительная опора для поэтической волны.
Итак, мы входим в мир на границе жизни и грезы. То, что дает нам поэт, — в меньшей степени опыт жизни, чем прекрасная мечта, исходящая из жизни. Страстная мечта любви, страдание, ставшее прозрачным, как бы светящимся благодаря поэтической преображенности.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Греческая цивилизация. Т.3. От Еврипида до Александрии."
Книги похожие на "Греческая цивилизация. Т.3. От Еврипида до Александрии." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Андре Боннар - Греческая цивилизация. Т.3. От Еврипида до Александрии."
Отзывы читателей о книге "Греческая цивилизация. Т.3. От Еврипида до Александрии.", комментарии и мнения людей о произведении.