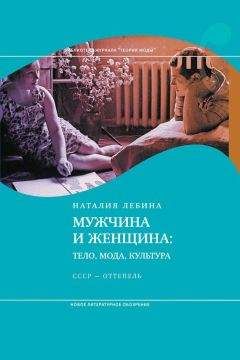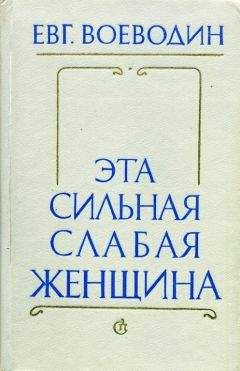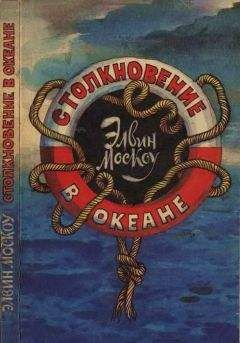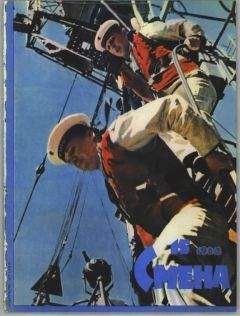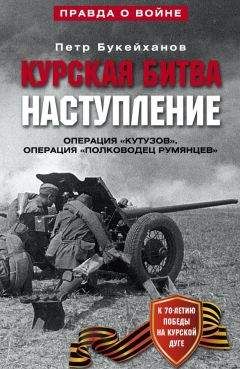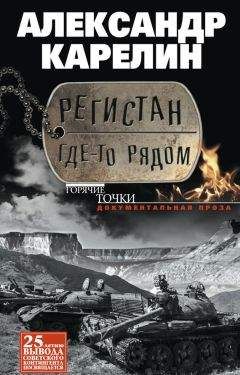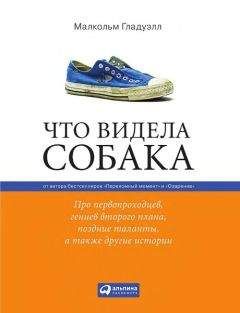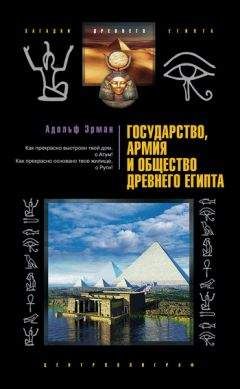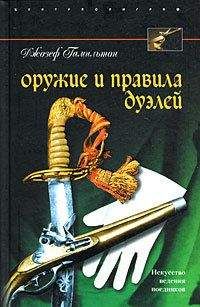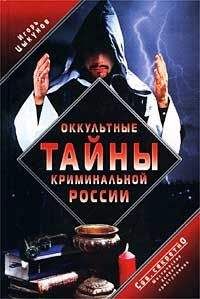Томи Хуттунен - Имажинист Мариенгоф: Денди. Монтаж. Циники
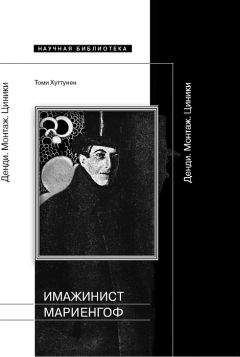
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Имажинист Мариенгоф: Денди. Монтаж. Циники"
Описание и краткое содержание "Имажинист Мариенгоф: Денди. Монтаж. Циники" читать бесплатно онлайн.
Исследование финского литературоведа посвящено творчеству Анатолия Борисовича Мариенгофа (1897–1962) и принципам имажинистского текста. Автор рассматривает не только имажинизм как историко-культурное явление в целом, но и имажинизм именно Мариенгофа, основываясь прежде всего на анализе его романа «Циники» (1928), насыщенного автобиографическими подтекстами и являющегося своеобразной летописью эпохи.
Ориентация на маргинальный прием лишний раз подчеркивает маргинальность Мариенгофа, поэтому неудивительно, что его никогда не воспринимали как авангардиста-новатора.[390] Вместе с тем Иван Грузинов возводил разноударную рифму в общеимажинистский принцип: «Едва заметное музыкальное касание одного слова о другое дает воспринимающему больше, чем фанфары старых точных рифм. Особым покровительством имажинистов пользовались до сих пор рифмы составные и обратные, рифмы и ассонансы на разноударные слова. Значительное внимание уделяется также амебам, которыми изобилуют наши стихи».[391] Мотивировка приема вполне «имажинистична» — уменьшение значения музыкальности во взаимоотношениях элементов, что, со своей стороны, подчеркивает их образную связь. Разноударные рифмы — «рифмы для глаз», в которых графическое сходство сохраняется, но звуковое разрушается.[392] Поэтому футуристы не так много экспериментировали в этой области. Однако имажинисты интересуются образностью языка, его визуальной стороной, а это напрямую касается рифмы. И здесь Мариенгоф выступает в роли главного «разноударника» русского авангарда. Его продолжателей в разработке этого приема следует искать среди ленинградских имажинистов.
В первой книге стихов Мариенгофа «Витрина сердца» (1918) разноударные рифмы отсутствуют. Но в лирических поэмах 1919–1921 годов их уже можно обнаружить. Кульминация в использовании данного приема приходится на 1921 год, когда «в трагедии „Заговор дураков“ <…> бушует настоящая оргия разноударности».[393] Этому можно найти вполне естественное объяснение. Так, анализируя пьесу, Т.В. Никольская приходит к выводу, что, поскольку главным действующим лицом является Тредиаковский («рифм и метра опытный фельдмаршал»), он и есть alter ego «разноударника» Мариенгофа.[394] Правда, его собственное «пророческое» появление в тексте[395] несколько осложняет такую интерпретацию, однако не лишает ее логики. Тем более что при первом появлении Тредиаковского в пьесе дается отсылка к сборнику Мариенгофа «Стихами чванствую»: «Вот тот, кто стихами пьянствует, / Чья лира поет, как гром».[396] В центре трагедии эпизод, в котором поэт Тредиаковский читает императрице Анне оду со смелыми, напоминающими об имажинистах 1920-х годов, эротическими образами: «Сосцы своих грудей, тяжелых молоком и салом, / Ты вкладывала трем младенцам в нежный рот. / О, Государыня, тебя сосали / Пехота, кавалерия и флот…»[397] За эти стихи поэт получает пощечину от императрицы. В основе эпизода лежит исторический анекдот, разные версии которого Мариенгоф «смонтировал» для своей пьесы.[398]
Однако вновь обратимся к «Магдалине». Взаимосвязанные элементы Мариенгоф располагает здесь далеко друг от друга, чем вынуждает читателя активно участвовать в реконструкции смысловых соотношений текста:
Магдалина,
Я тоже люблю весну.
Знаешь, когда, разбивая, как склянки,
Тинькает
Солнце льдинками.
А нынче мохнатые облака паутиной
Над сучьями труб виснут,
И ветер в улицах кувыркается обезьянкой,
И кутают
Туманы пространства в тулупы, в шубы, —
Еще я хочу, Магдалина,
Уюта
Никогда не мятых мужчиной
Твоих кружевных юбок.[399]
Как видим, поэт не ограничивается здесь разноударными рифмами, в которых ударение передвигается на соседний слог, что провоцирует их сопоставление с обычными. Он расставляет сдвинутые рифмы «необычно далеко друг от друга (иногда рифму находишь только на следующей странице)».[400] Марков приводит в качестве примера подобной организации текста начало поэмы «Друзья». Однако мы полагаем, что имеем дело с более общим принципом поэтики Мариенгофа. Культ «разноударника» связан у него с поиском новых выразительных средств для передачи абсолютной фрагментарности окружающего мира, целостность которого поэт восстанавливает вместе со своим читателем.
2.4. Метафорическая цепь
В письме Н.Н. Страхову от 23 апреля 1876 года Л.Н. Толстой рассуждает об организации материала в своих произведениях следующим образом: «Во всем, почти во всем, что я писал, мною руководила потребность собрания мыслей, сцепленных между собою, для выражения себя, но каждая мысль, выраженная словами особо, теряет свой смысл, страшно понижается, когда берется одна из того сцепления, в котором она находится. Само же сцепление составлено не мыслью (я думаю), а чем-то другим, и выразить основу этого сцепления непосредственно словами никак нельзя <…> нужны люди, которые бы показывали бессмыслицу отыскивания мыслей в художественном произведении и постоянно руководили бы читателей в том бесконечном лабиринте сцеплений, в котором и состоит сущность искусства, и к тем законам, которые служат основанием этих сцеплений».[401] Тема «монтажного сцепления», волнующая здесь Толстого в связи с «Анной Карениной», без сомнения, может быть сопоставлена с проблематикой изучаемого М. Бахтиным полифонического романа. Ученый подчеркивает, что из диалогической ткани подобного произведения нельзя вычленить ни один элемент, не исказив его природы, так как при этом идеи или голоса становятся безличными истинами, которые чужды и враждебны полифонии романов Достоевского.[402] Таким образом, сиюминутное сцепление — признак полифонизма. Вместе с тем письмо Толстого, цитируемое впоследствии открывателем «монтажного эффекта» в кино Кулешовым,[403] имеет непосредственное отношение к имажинистам. Не случайно критик Львов-Рогачевский приводит именно этот пассаж в ходе рассуждений об имажинистской поэтике Шершеневича, противопоставляя его «каталог образов» толстовскому «сцеплению образов».[404]
С ним спорит Мариенгоф. Декларируя необходимость столкновения образов, чтобы «вызвать у читателя максимум внутреннего напряжения», он подчеркивает, однако, исключительную цельность имажинистского текста при внешней фрагментарности: «Предельное сжатие имажинистской поэзии требует от читателя наивысшего умственного напряжения — оброненное памятью одно звено из цепи образов разрывает всю цепь. Заключенное в строгую форму художественное целое, рассыпавшись, представляет из себя порой блестящую и великолепную, но все же хаотическую кучу, — отсюда кажущаяся непонятность современной образной поэзии».[405] Мариенгоф настаивает на идее связности текста и особой комбинации образов.[406] Автор является организатором текста, который вырабатывает его строгую форму, и читателю остается реконструировать это целое. Своеобразный пример этого мы видели выше в поэме «Магдалина».
Попытка развить идеи, сформулированные Мариенгофом в «Буян-острове», была предпринята в 1925 году петроградскими имажинистами. В рукописном документе «Литературно-критические заметки о поэтах Воинствующего Ордена имажинистов в Ленинграде» представлены С. Полоцкий, В. Эрлих, Г. Шмерельсон и В. Ричиотти. Они выступают здесь как продолжатели имажинистской поэтики Мариенгофа. Принципом своей поэзии они объявляют афоризм: «Ускорившийся до невероятности ритм жизни привел искусство вплотную к имажинизму (Мариенгоф). Это один из мотивов, благодаря которому имажинисты выдвинули в качестве главного средства — образ. Нами руководило стремление достичь предельной скорости и максимальной экономии слова, достичь в произведении энергии, напряженности, динамики. Прекрасным приемом в этом направлении явился афоризм — мысль, выраженная в краткой отрывочной форме, как его определяют словари. Разумеется, афоризм не так важен, как образ, который достигает больших результатов, выявляя не мысль, а стремительное движение, действие, целое событие».[407] Краткая в своей фрагментарности форма афоризма делает этот жанр, согласно младоимажинистам, принципиально важным и незаменимым. С его помощью может быть передан упомянутый Мариенгофом динамизм, соответствующий современному ритму жизни, — принцип, который подчеркивается и в других теоретических работах имажинистов. Проблемой здесь оказывается лишь несовместимость «безличных истин» афоризмов со связной композицией имажинистского текста.
Для Мариенгофа активное участие читателя в смыслопорождении тесно связано как с выбором максимально эпатирующих сопоставлений, так и с «предельным сжатием» структуры текста, заставляющим воспринимающего реконструировать целое. Его поэзия отличается «чрезвычайной резкостью образных переходов». Мариенгоф подчеркивает не только контрастные противопоставления, но и напряжения в структуре текста, в котором господствует «взаимовлияние образов». Имажинистский образ для него — нечто комбинированное, а в окончательном тексте образ-звено превращается в настоящий образ, который является частью словесно-образной цепи. Словотворчество оказывается техникой, «кузнец» которой и есть «поэт-гений».[408] Имажинисту необходимо, чтобы новый смысл возник именно здесь и сейчас, в результате данного, единственно возможного фрагментарного сопоставления. Взятый отдельно фрагмент «разрывает всю цепь». Эти идеи оказываются близки мыслям Тынянова о «соотносительности» текстовых элементов и «тесноте стихотворного ряда».[409]
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Имажинист Мариенгоф: Денди. Монтаж. Циники"
Книги похожие на "Имажинист Мариенгоф: Денди. Монтаж. Циники" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Томи Хуттунен - Имажинист Мариенгоф: Денди. Монтаж. Циники"
Отзывы читателей о книге "Имажинист Мариенгоф: Денди. Монтаж. Циники", комментарии и мнения людей о произведении.