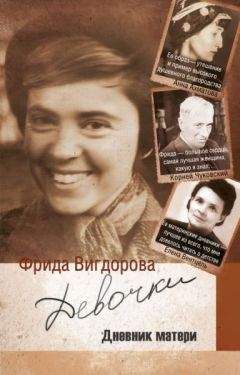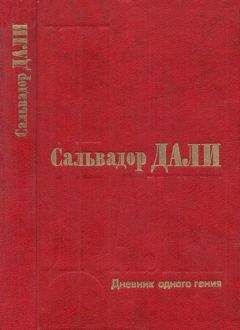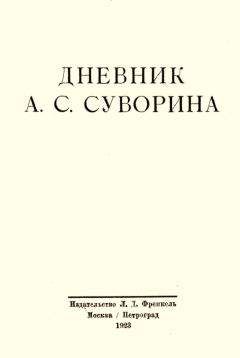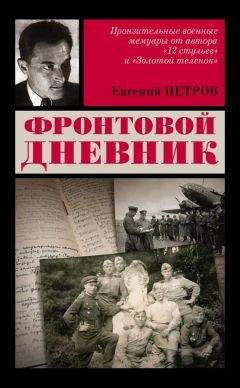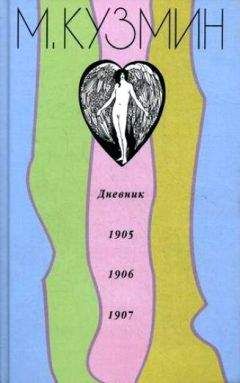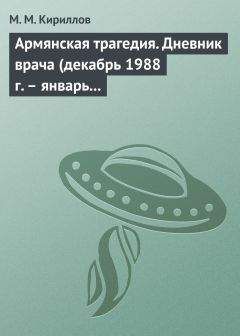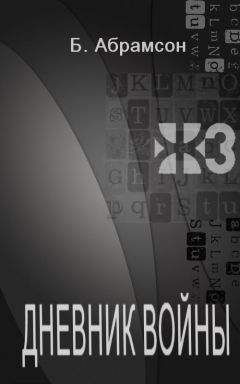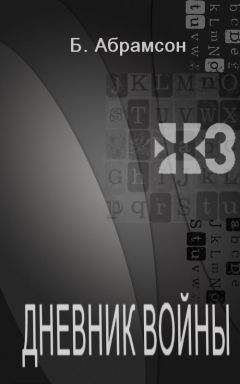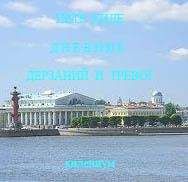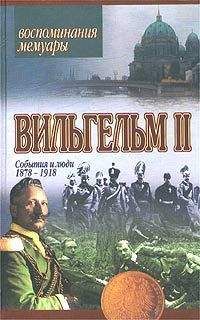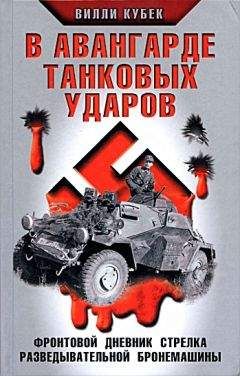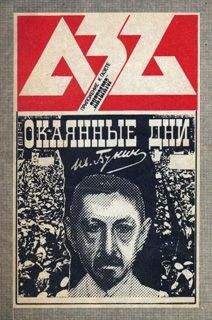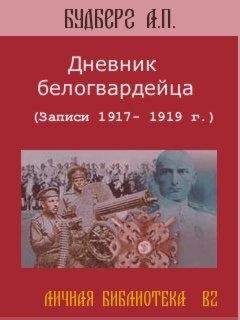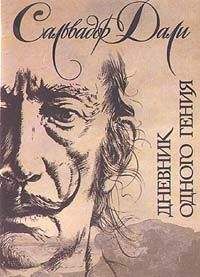Михаил Пришвин - Дневники. 1918—1919
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Дневники. 1918—1919"
Описание и краткое содержание "Дневники. 1918—1919" читать бесплатно онлайн.
Дневник 1918—1919 гг. представляет собой достаточно большой по объему документ, который можно считать летописью, но летописью своеобразной. Хотя дневник ежедневный и записи за редким исключением имеют точные хронологические и географические рамки, события не выстраиваются в нем в хронологический ряд.
Вопросы, которые поднимает Пришвин в первые послереволюционные годы, связаны с главной темой новейшей русской истории, темой, которая определила духовную ситуацию в России в течение столетия, — народ и интеллигенция.
Дневник первых лет революции — не только летопись, но и история страдающей личности.
Революцию — русский бунт — Пришвин понимает не только как зло, но и как свободу воли («проделать опыт жизни за свой страх и риск»), как ответственность и испытание («Молоды мы, сильны — мы создадим новый мир... стары - мы умрем бунтарями, и потомки наши странниками рассыплются по всей земле»).
Его мысль вновь обращается к образу блудного сына («всем перемутиться, все узнать и встретиться с Богом»), к самой духовной сущности человека («Блудный сын — образ всего человечества»).
Революция в дневнике писателя предстает как ад, в котором происходит «жестокая расправа над геловеком». Он резко осуждает идею равенства («Вы хотели всех уравнять и думали, что от этого равенства загорится свет братства людей, долго вы смотрели на беднейшего и брали в образец тощего, но тощие пожрали все и не стали от этого тучнее и добрее»), понимает губительность уничтожения собственности («Рубит баба березу, рубит пониже ее мужик иву, доканчивают рощу. Через полстолетия только вырастет новая, и то, если будет хозяин»). Он видит противоприродность революции, ее разрушительную силу, направленную против личности, против любви к бытию, и отмежевывается от участия в ней («Нужно как-то вовсе оторваться от земли, от любви к цветам и деревьям, к труду земледельца, чтобы благословлять это сегодняшнее разрушение»). Пришвин видит, что революция отбрасывает Россию на периферию мировой истории («Мы теперь провинциалы от интернационала»), что в основе большевизма лежат «разрыв с космосом», «претензия на универсальность». Уже в это время он понимает, что никакая святыня не остановит большевистского наступления на русскую жизнь («Вспоминали вегером про Оптину Пустынь, старца Анатолия — неужели и там теперь конюшни и казармы?»). В революции Пришвин усматривает противостояние большевизма и демократии и, хотя почвы для демократического развития он в России в это время не находит, идея демократического пути кажется ему перспективной («Бюрократия и социализм пришли к нам из Германии, огень хорошо, если русские испытают на себе влияние идей эволюционной демократии»).
Народ же, по Пришвину, «не ведает, что творит», он обманут и соблазнен — именно обман и соблазн народа Пришвин вменяет в вину Ленину, хотя не Ленин последнее звено в персонификации силы зла. По масштабу трагедии определяет писатель главного обманщика и называет его имя: Аввадон, князь тьмы.
В то же время революция выявляет для Пришвина неполноту, недостаточность идеи антиномичности добра и зла — дуализма мира. Процесс жизни оказывается более иррациональным и сложным («Нужно знать время: есть время, когда зло является единственной творгеской силой, все разрушая, все поглощая, она творит невидимый град, из которого рано или поздно грянет: — Да воскреснет Бог»). Эта мысль для Пришвина не случайна: парадоксальное сочетание добра и зла усматривает он в самой психологии бунта.
Историческая действительность получает у писателя художественное осмысление, которое придает катастрофе космический масштаб («зарево пожара великого помрачило сияние ночных светил», «звезда небесная почернела», «лавина великого обвала засыпала»). Победа хаоса означала разрушение формы, падение покровов, утрату лица и имени. В этом хаотическом пространстве реальное и ирреальное (сон) смешиваются, взаимопроникают одно в другое. Поэтика сновидений в эти годы связана с образами ужаса, тяжести, разрушения. В сновидении (1919) душа писателя, лишенная всего субъективного, личного становится сосудом, вмещающим народную судьбу («Мне снилось, будто душа моя сложилась чашей — мирская чаша, и все, что было в ней, выплеснули вон и налили в нее щи, и человек двадцать... едят из нее»). Образ оказывается настолько значимым для художника, что дает название его первой послереволюционной повести «Мирская чаша».
Революция в космической картине разрушения предстает в образе летящей кометы: скорость и пыль противопоставлены земле и времени. Причем время приобретает качественно иной характер, противоположный жизни, текущей по циклическим законам природы: время революции (история) — время телячье (род, вечность). Нарушение законов природы, по Пришвину, чревато бесконечным падением («полет в бездну») — до первых дней творения («тьма-тьмущая окутывает небо и землю»). Соответствие событиям писатель находит в образах Апокалипсиса («Так вот что это значит: "звезды почернеют и будут падать с небес"»). Рушится космос русской жизни, главные качества которого: «непомерная ширь земли и человеческая глубина бесконечная» — ныне утрачиваются («Теперь же чувство мира — свободы лежит все в развалинах... на развалинах страны шагаешь черезродных и святых»).
Гибель России была катастрофой для Пришвина-художника.
Связь с органическим целым русской жизни — Россией - традиционно составляла смысл и силу русской литературы. Для Пришвина этот мир — единственная и абсолютная ценность, предмет его художественного внимания, среда его обитания. Гибель России означала для него гибель главного предмета искусства. В первоначальном хаосе, который обнажила революция, Пришвин видит «страшную правду», но не видит лица. Художник гармонического склада, он не может быть певцом хаоса и в поисках источника творчества обращается к сфере простейшего. Целое он находит теперь в конкретном, элементарном, архаическом, в простейших натурфилософских деталях («Хожу возле погибели — показалось простейшее без слов, как тогда, и я узнаю в нем свое, и с ним соединяюсь с болью и радостью»). То, что было для него прежде целым, теперь стало деталью, элементом мира распавшегося («Литература - зеркало жизни. Разбитое зеркало»). Отныне в поэтике Пришвина детали не только свидетельствуют о целом, несут память о нем — они становятся целым. Возможно, в этом надо искать истоки будущего внимания писателя к микрогеографии и приверженность к миниатюре в поздние годы.
Революция до основания изменила жизнь писателя. В 1918 г. Пришвин живет в Хрущеве, где на небольшом участке земли с частью сада, полученном в наследство от матери, он в 1916 году строит дом — неподалеку от большого дома его детства. К этому дому на протяжении всей жизни он постоянно возвращался в мыслях и снах.
Дом был связан с матерью, самым близким для Пришвина человеком, с кузинами, оказавшими очень большое влияние на формирование его личности, с образом рано умершего отца, с хрущевским крестьянином Гуськом, дружившим с мальчиком, а деревья хрущевского сада вспоминались ему, как «святые». Связь с Хрущевым была для Пришвина связью с родиной, это был воистину целый мир, хранивший истоки его личности. В 1918 г. переживания Пришвина связаны с судьбой Хрущева («Старый дом, на который мы смотрим теперь только издали, похож на разрытую могилу моей матери», «Мы смотрим из-за кустов на наш дом, не смея и думать, чтобы к нему подойти»).
То же самое нужно сказать о хрущевском саде. Сад — универсальный пришвинский символ. В книге «У стен града невидимого. (Светлое озеро)» (1909) образ черного сада с поющим соловьем соотносится с неблагополучием русской жизни в целом, с ее вечным взысканием невидимого града и обреченностью жить во зле. В 1918 г. переживания писателя связаны с реальным, хрущевским, садом, который становится в дневнике, быть может, невольной метафорой гибнущей жизни («Завтра погибнет мой сад под ударами мужицких топоров... Прощаюсь с садом и ухожу, я найду где-нибудь сад еще более прекрасный: мой сад не умрет. Но вы, кто рубит его, увидит только смерть впереди (пьяные вороны)»).
В труднейшей жизненной ситуации Пришвин ищет те глубинные пласты жизни, где возможно ее продолжение, хотя это сопряжено с трагедией («Радоваться жизни, вынося все мучения»).
Утрата внешней свободы — собственности (из Хрущева Пришвин был выдворен новой властью), возможности печататься («Я писатель побежденного бессловесного народа без права даже писать»), гибель родины («Вся жизнь до самых недр своих пропитана ложью») — мало кто в это время находил в себе силы искать положительный выход из тупика. Пришвина это не сломило. Его радость жизни, любовь к бытию превышают возможности обыденного сознания, но именно на этих качествах основана пришвинская философия личности («Радость эта внесоциальная»). Внутренняя свобода — вот единственное, чего не может отдать писатель, что представляет для него абсолютную, безусловную ценность («Я не нуждаюсь в богатстве, славе, власти, я готов принять крайнюю форму нищенства, лишь бы оставаться свободным, а свободу я понимаю как возможность быть в себе...»).
Таким образом, в дневнике воспроизводится вечный русский сюжет, связанный с темой роста внутренней свободы за счет утраты внешней. Складывается и образ поведения, который более всего понятен в контексте христианской традиции аскетизма («Жить в себе и радоваться жизни, вынося все лишения, мало кто хочет, для этого нужно скинуть с себя все лишнее, мало кто хочет для этого перестрадать и наконец освободиться»).
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Дневники. 1918—1919"
Книги похожие на "Дневники. 1918—1919" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Михаил Пришвин - Дневники. 1918—1919"
Отзывы читателей о книге "Дневники. 1918—1919", комментарии и мнения людей о произведении.