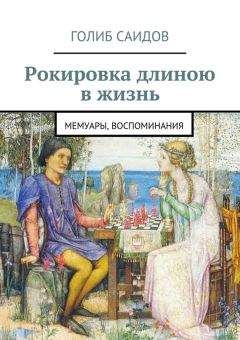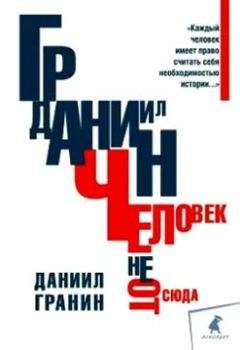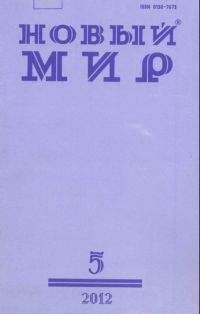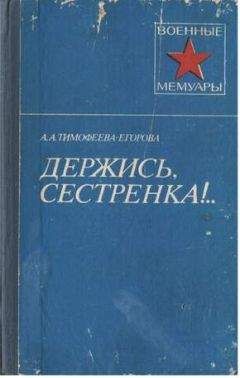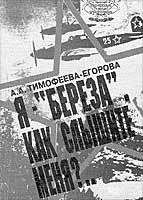Николай Тимофеев-Ресовский - Воспоминания

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Воспоминания"
Описание и краткое содержание "Воспоминания" читать бесплатно онлайн.
Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского еще при жизни называли человеком-легендой. Великий ученый - зоолог, генетик, биофизик, эколог, - он был еще и философом, знатоком истории и ценителем искусств, личностью разносторонней, воистину титанической. Недаром свою знаменитую документальную повесть о нем Д.Гранин назвал "Зубр", сравнив этого изумительного человека с могучим, величественным, уходящим в небытие животным. Эта мемуарная книга не написана, а наговорена. Ее автор был блистательным рассказчиком. Воспоминания Тимофеева-Ресовского, по жанру и стилю близкие к повествованиям гоголевского Рудого Панька, многих персонажей Н.Лескова и В.Шукшина, доставляют подлинное эстетическое удовлетворение своей легкостью, глубиной и юмором.
Все это вместе рождало, естественно, интерес и к изучению природы генов. Что они собой представляют, что в связи с этим представляют собой, чисто механически, мутации. Это направление оставило серьезный след во многих из нас в дальнейшей нашей работе. В частности, через пару десятилетий моя группа, уже моих учеников и сотрудников, специально занималась физико-химической природой мутаций и структурой генов. Это оживлялось у нас начатыми еще давно Николаем Константиновичем Кольцовым рассуждениями, основанными на его собственных работах по физико-химической природе клеточных структур и внутриклеточных процессов, скажем, мускульного сокращения и т.д. Они привели Николая Константиновича уже в 12 году к определенным воззрениям на природу наследственного вещества, на природу генотипа, а в связи с этим, конечно, и на природу мутаций, изменений этих генотипов. Ну, тогда в основном сам Николай Константинович Кольцов разрабатывал эти свои воззрения. Первая его большая, на современном уровне работа появилась в 28 году по-немецки, а затем, в начале 30-х годов, еще целый ряд теоретических исследований о природе, о строении хромосом и генов, о природе мутаций появились в теоретических журналах. Сперва в начавшем выходить «Журнале экспериментальной биологии», потом в «Биологическом журнале».
Мы заинтересовались генетическими основами промыслового дела, использованием естественных производительных сил. С тех пор, в особенности у меня, так и не увядал интерес к тому, что сейчас именуется охраной природы, изучением среды. Среды чего? Я всегда спрашиваю: «Которая между вторником и четвергом, или какой-нибудь другой?» Оказывается, другой: среды обитания. Кого? Человека. Ну ладно, среды обитания человека. Вообще-то — живой природы, биосферы Земли. Появился интерес к биогеохимии, к Вернадскому[27]. Эта струя влилась к нам. Потом, уже после моего отъезда, она сильно выветрилась.
Наш кружок, наш Дрозсоор, был особенно интересен тем, что в широком смысле состоял и из молодых сотрудников кольцовского института, включая биологические станции, принадлежавшие институту, и из старших студентов, проходивших большой зоологический практикум кольцовский. Причем все происходило в кольцовском институте, где помимо самого Кольцова была очень интересная группа передовых биологов, старшего поколения кольцовских учеников: Фролова, Живаго, Серебровский, Завадовский[28], Скадовский — все это были интересные, крупные люди, стоявшие над нами. Кроме Четверикова, они не были постоянными рядовыми участниками нашего кружка, но наш кружок в их среде развивался. И это, конечно, сыграло очень большую роль.
Дрозсоор с моим участием продолжался до 25 года, а с 26 года — меня уже не было — он разросся, к сожалению. Но все кончилось в 28 году, когда начались другие совершенно веяния в Советской России, чем были во времена Ленина. После смерти Ленина ленинский дух еще несколько лет, так сказать, витал над страной и держал ее, я бы сказал, в смысле взаимоотношений между людьми в приличном состоянии, а потом начались всякие вещи, политически очень резкие, ведущие к человеческим неприличиям часто. Вот с 28 года всякие такие затеи, вроде нашего Дрозсоора, стали подозрительно контрреволюционными затеями, и их разгоняли. Разогнали и наш Дрозсоор. Сергея Сергеевича Четверикова отправили в ссылку, сперва в Свердловск, где он несколько лет заведовал паршивеньким маленьким каким-то краеведческим музейчиком. А потом разрешили переехать сперва во Владимир немножко, а потом в Горький, профессором в Горьковский университет. Это было уже в середине 30-х годов.
Наш Дрозсоор в результате был в те времена и далее, до второй войны во всяком случае, таким уникальным в Отечестве нашем явлением. Мне в этом отношении повезло.
Педагогика, Лёлька и «мокрые дела»
Теперь я хочу рассказать, как и почему я залез в науку уже, так сказать, более или менее официально, стал этим самым, так называемым научным работником. Это сейчас у нас чрезвычайно распространенный сорт паразитов и иногда лишь — полупаразитов. Тогда же нашего брата было еще сравнительно немного, и можно сказать, что большого вреда нашему Отечеству мы не приносили. Так вот. Времени у меня в те годы, с конца 21-го, как я говорил, было мало. Чтобы жить, нужно было есть, чтобы есть, надо было зарабатывать на еду. К этому времени запасы, так сказать, от гнусного старого режима были более или менее съедены уже у большинства людей моего круга. И ничего уже не было. Даже которые получше плюшевые занавески, и те были съедены. Пошли каким-то там... спекулянтам, которые из них, с одной стороны, делали дамские шляпки, с другой стороны — какие-то шикарные картузы для новых нэпмачей и, с третьей стороны — юбки в обтяжку для дам же. Так что все было подъедено, надо было как-то зарабатывать.
Кроме того, начала осуществляться денежная реформа. «Лимоны», то есть миллионы, до того быстро росли в числе, что в конце концов докатилось: миллион трамвайный билет стоил, когда трамваи пошли в Москве. Была проведена финансовая реформа, введены червонцы. Сколько, я забыл, это меня не интересует, сколько-то, значит, этих миллионов равнялись одному червонцу, а червонец — это было десять золотых рублей. И на червонец можно было купить чертову прорву всяких вещей. Когда через несколько лет мы с женой приехали в Германию, тогда совершенно свободно в меняльной кассе можно было червонцы обменять на марки. До революции рубль стоил две марки десять пфеннигов, а один рубль червонный стоил две марки двадцать три пфеннига. Так что был он дороже царского рубля, червонный рубль. Я тогда уже в Москве осел окончательно, точно не помню когда, но в самом начале, в январе — феврале 21 года, по-моему. И больше не воевал, то есть я состоял на военной службе, получал за пение в хоре Московского военного округа фронтовой паек. Первым басом пел. Но это война такая уже была мирная, я бы сказал.
Мы тогда не пали еще столь низко, чтобы зарабатывать с помощью науки. Зарабатывали мы деньги работой, сперва физической, а когда отрывать время на физическую работу было уже некогда, я пустился по интеллигентской линии — стал преподавателем. Меня устроили в ППУОКР (два «п» в начале) Политпросвет Управления округа. И там я читал лекции об эволюции и пел в хоре первым басом. Получал за лекции простой паек красноармейский, а за пение басом — фронтовой паек, то есть двойной паек. Итого три пайка, что было очень здорово. Это было лучше всяких жалований. Но все это кончилось, потому что с утверждением червонца и нэпа все пайки отмирали, один за другим мирно и тихо скончались.
Я стал преподавать на Пречистенском рабфаке. Еще в приезды во время революции в Москву я, по каким-то там традициям интеллигентским, немножко преподавал на вечерних Пречистенских рабочих курсах[1]. Это считалось либеральным и передовым занятием. Потом Пречистенские вечерние рабочие курсы превратились в первый, самый крупный в Москве рабфак, Пречистенский рабфак, огромное учреждение. Вот на этом рабфаке я преподавал зоологию. Через некоторое время, не помню, кажется, в 22 году, в начале 23-го, я начал преподавать зоологию еще на каком-то рабфаке, небольшом, в районе Девичьего Поля и Погодинки[2]. Затем, в 21/22 учебном году организовался в качестве надстройки над Пречистенским рабфаком Практический институт[3], высшее учебное заведение, очень интересное. Его закрыли в 29-м, мне было страшно жаль, и я с тех пор все время мечтал и мечтаю, как хорошо было бы иметь нечто подобное. Это был интереснейший институт, состоявший из трех факультетов: экономического, сельскохозяйственного и биотехнического. Я стал преподавателем зоологии на биотехническом факультете при кафедре зоологии, вел практикум, как малый, так и большой зоологический практикум. Это был интереснейший факультет.
Экономический и сельскохозяйственный факультеты были интересны только тем, что они были модернистскими, реформированными экономическими и сельскохозяйственными вузами. А биотехнический факультет — это была очень своеобразная, новая, очень талантливая, интересная и нужная выдумка. Это, собственно, был факультет, посвященный теоретическим основам любой прикладной биологии. Это то, чего у нас не было и чего нету до сих пор, а сейчас и в помине нет.
На биотехническом факультете было несколько циклов — цикл генетико-селекционный, цикл промысловый в широком смысле слова, разделявшийся на специальности: лесные промыслы, водные, охотничьи, зверобойные промыслы и т.д. Все промысловое дело, понимая под промыслом, в отличие от агрономии и агротехники, то, что человек добывает из запасов, постоянно самовозобновляющихся, так называемых диких или свободноживущих живых организмов — растений, животных и микроорганизмов, вплоть до сбора грибов и использования микроорганизмов: различных видов дрожжей, бактерий, водорослей и т.д. Значит, основы генетики и селекции, основы промыслового дела и третье направление — теоретические основы прикладной гидробиологии. Значит, все проблемы очистки сточных вод, водопроводного дела и т.д., теоретические, в основном гидробиологические, гидрофизиологические основы этих дел. Затем теоретические основы прикладной энтомологии в качестве раздела защиты растений и прикладной бактериологии, то есть вредители растений группы грибков и бактерий. Опять-таки теоретические основы вот этих прикладных дел.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Воспоминания"
Книги похожие на "Воспоминания" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Николай Тимофеев-Ресовский - Воспоминания"
Отзывы читателей о книге "Воспоминания", комментарии и мнения людей о произведении.