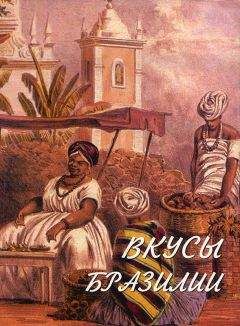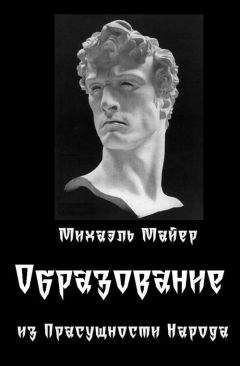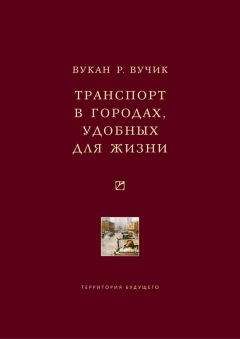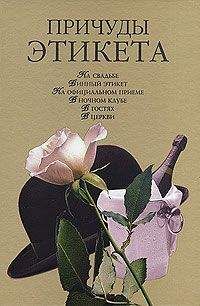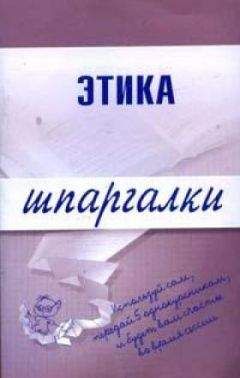Валентин Красилов - Метаэкология
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Метаэкология"
Описание и краткое содержание "Метаэкология" читать бесплатно онлайн.
В этой книге меня интересовало, в первую очередь, подобие различных систем. Я пытался показать, что семиотика, логика, этика, эстетика возникают как системные свойства подобно генетическому коду, половому размножению, разделению экологических ниш. Продолжив аналогии, можно применить экологические критерии биомассы, продуктивности, накопления омертвевшей продукции (мортмассы), разнообразия к метаэкологическим системам. Название «метаэкология» дано авансом, на будущее, когда эти понятия войдут в рутинный анализ состояния души. Ведь смысл экологии и метаэкологии один — в противостоянии смерти. При этом экологические системы развиваются в направлении увеличения биомассы, роста разнообразия, сокращения отходов, и с метаэкологическими происходит то же самое.
Несмотря на устрашения, избранный народ продолжал бесчинствовать, поклоняясь золотому тельцу даже во время непосредственного общения Моисея с богом, которому пришлось, не ограничиваясь словесными внушениями, собственноручно начертать на каменных скрижалях свод очень суровых законов, касающихся порядка жертвоприношений и отпущения грехов, диеты, крепких напитков, инфекционных заболеваний, половых отношений и бытовой морали, содержащей, в частности, статьи о любви к ближнему, почитании старцев и гостеприимстве («когда поселится пришелец в земле вашей, не притесняйте его»). Нарушение божьих законов неизменно каралось смертью.
Божьи законы, в отличие от кесаревых, прописаны для духовного мира, властвуя над душой человека. Но жизненный опыт подсказывает, что истинную власть имеет лишь тот, кто управляет основными инстинктами. Поэтому любая властная структура, в том числе религиозная, стремится контролировать питание и размножение. Кто определяет, что можно есть, с кем и когда следует спариваться, у того и власть. Так что без диетических предписаний, постов, говений, лицензий на половую жизнь никак не обойтись.
Голгофа
Влиятельный пророк Иоанн Креститель мужественно обличал нарушающих законы, в том числе и царя Ирода — за его связь с женой брата Иродиадой (в завете: «Наготы жены брата твоего не открывай, это нагота брата твоего»), за что и поплатился головой. Менее ясна другая сторона деятельности Иоанна — обряд крещения, очевидно, производный от обряда инициации и получивший дополнительный смысл очищения от первородного греха, т. е. плотского рождения, как у животных, давая субъекту второе — духовное — рождение уже в качестве человека. Крещеный получал при этом второго (крестного) отца.
Стремление иметь больше чем одного отца (у женщин — более чем одного мужа), выраженное в дошедших до наших дней понятиях «крестный отец» и «духовный отец», восходит к полиандрии (многомужеству), когда все потенциальные отцы сообща заботились о ребенке (как это имеет место у некоторых видов обезьян). В античном мире считалось весьма почетным числить вторым отцом кого-нибудь из бессмертных. Даже в относительно поздний период Александр Македонский, имея прославленного земного отца, считал полезным назваться еще и сыном Аммона. По сей день женщины тайно мечтают о втором муже: в этом одна из причин женского промискуитета (подробнее в главе 5).
Бог Авраама не зря так настойчиво предостерегал против влияния богов соседних народов, запрещая в качестве превентивной меры смешанные браки. Тем не менее еврейские вельможи, и, в первую очередь, царь Соломон, брали себе многочисленных жен и наложниц из моавитянок, сидонянок и прочих, а те склоняли их сердца к своим богам и приобщали к запретным обрядам. В частности, очищение водой было принято у многих народов, в том числе у персидских последователей Зороастра, обряд которых включал еще вторую стадию — очищение огнем, о котором мельком упоминает Иоанн Креститель (Мат., 3, II). Филистимляне поклонялись водному божеству Дагону, получеловеку-полурыбе, который в результате очищения, может быть, и становился у них вторым отцом.
Среди тех, кто прошел обряд очищения у Иоанна, был полноватый тридцатилетний галилеянин, который, в отличие от сурового пустынника, подпоясанного кожаным ремнем, не имел склонности к аскетизму (Матфей: «Ибо пришел Иоанн, ни ест, ни пьет; и говорят: "В нем бес". Пришел Сын Человеческий, ест и пьет; и говорят: "Вот человек, который любит есть и пить вино"»).
Его упрекали в том, что он не соблюдает постов и не моет рук перед едой. Но он не был противником Моисеевых законов. Его удручал лишь автоматизм, несовместимый с истинной духовностью. Новое этическое учение носило максималистский характер и не отменяло, а лишь ужесточало ветхозаветные нормы. Однако количество перешло в качество и родилась новая система ценностей.
Принеся добровольную жертву, Иисус утвердил право человека распоряжаться судьбой; проповедуя любовь к врагам, он открыл перспективу окончания извечной борьбы, движущей миром на ранних — примитивных — стадиях его развития, прекращения извечного конфликта двойников. Тотальная любовь как сверхзадача духовного развития требует бесконечного совершенствования, и путь этот предстоит пройти всему человечеству, а не только избранным. Так далеко до конца его, что неравенство отступает на задний план как незначительное. Ведь и бог теперь не столько отец, сколько брат. Убогим и заблудшим предоставляется особая поддержка, чтобы дойти всем вместе, противостоять отбору и сохранить разнообразие людей.
Непрестанно пересаживаясь с осла в лодку и обратно, Иисус непринужденно сочетал авантюризм Одиссея с конформизмом Авраама, эпикурейскую жажду удовольствий со стоической тягой к страданию. Годы, проведенные в пустыне, не прошли даром: в кумранских пещерах были собраны все сокровища человеческой мысли. Христианское учение свидетельствует о широкой философской эрудиции его создателя. Греки называли Иисуса иудейским софистом — высокая оценка.
Однако, чтобы проповедь была услышана, «надо учить как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи». Здесь могут пригодиться древние приемы зороастрийской и тотемической магии (ведь он вырос в Галилее, еще недавно языческой, окруженной племенами, еще не расставшимися с культом животных), хождение по воде, воскресение мертвых — задолго до него влиятельный пророк Илия делал то же самое. Возвышение смиренного и сокрушенного духом — унижение гордого и высокомерного пророчествовал Исаия, который тоже в период чужеземного пленения подвергал себя добровольному страданию. И участь пророка предрешена: его схватят и будут передавать из рук в руки (от первосвященников к Пилату, от него к Ироду и обратно), как делают стражи ворот на пути в потусторонний мир, и отделят плоть от близнеца ее.
Когда-то первенцев от людей заменяли первенцами от ослов, а тех — ягнятами: вспомним в этой связи тщательный выбор непорочного осленка, на котором состоялся торжественный въезд в Иерусалим. Но не осленок станет здесь жертвой. Здесь будет в полном объеме восстановлено человеческое жертвоприношение. Вся метафизика древнего мира будет собрана на Голгофе, от которой пойдет новая эра эволюции человека.
Метафоры
Христианская философия нетождественна христианской религии. Ведь и сам Иисус не ставил между ними знака равенства, говоря с апостолами на одном языке, с толпой — на другом. Текст первого публичного выступления Иисуса в родном Назарете до нас не дошел, но, судя по результату, оно, в отличие от Нагорной проповеди, могло быть бесхитростным изложением его философской системы. В древнем мире философов чаще всего изгоняли. Так было с Протагором, Анаксагором, Диогеном (в Синопе), Аристотелем и т. д. Так случилось и с Иисусом. Трудно быть пророком в своем отечестве, но еще труднее быть философом. Поэтому Иисус, после неудачного дебюта, изменил тональность и стал говорить не как книжники и фарисеи (т. е. философы), а как «власть имеющий» (т. е. пророк).
Пророков не изгоняют. Им поклоняются, их убивают. Однако определенная небрежность в соблюдении ритуалов — субботы, диеты, мытья рук и т. п. — свидетельствует о том, что полного преображения философа в пророка так и не произошло: может быть, считал, что нравственное учение тем лучше, чем меньше в нем запретов. Богословов-«книжников» возмущали подобные вольности, но они при этом упустили из виду более важное отличие нового учения от ветхозаветной этики, а именно его интернациональный характер. Ведь бог Авраама, говоря «не убий», имел в виду одних лишь евреев, а не филистимлян, например. Даже Иисус вначале ответил отказом сирофиникиянке, просившей исцелить дочь, «... ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она же сказала ему: «Так, Господи; но и псы под столом едят крохи у детей» (Мар., 7, 28). Этот смиренный ответ, заставивший прослезиться Оскара Уайльда в заточении («Де Профундис»), тронул и Христа.
В основе врожденной — инстинктивной — этики у животных лежит отождествление себя с другой особью того же вида, убийство которой почти равнозначно самоубийству. У человека, однако, в силу значительных межпопуляционных и индивидуальных различий такого рода отождествление затруднено не только в отношении представителей других рас и племен, говорящих на чужом языке (т. е. принадлежащих одному биологическому виду, но разным метаэкологическим видам), но и в отношении соплеменников, для защиты которых понадобился закон, заменивший уже почти не действующий инстинкт и приведший к дальнейшей деградации последнего.
Поскольку социальный запрет не столь абсолютен, как биологический, то из-под него можно при желании вывести группы людей, убийство которых не только не запрещается, но даже поощряется. Люди, таким образом, отстают от животных, инстинктивная этика которых в любом случае распространяется на весь биологический вид и на тех, кто с ним отождествляется (мы ожидаем от собаки беззаветной преданности и самоотверженности, тем самым предполагая в ней более высокие моральные качества, чем в среднем человеке). Христианство было первым — и не во всем успешным — шагом к преодолению этого отставания и включению в сферу этики всего человечества. Оно коренным образом изменило (в принципе; мало что из задуманного удалось осуществить на практике) отношения между человеком и богом, который стал сыном человеческим, т. е. порождением человека — ранее было наоборот. А сын, как сказано в Евангелии от Филиппа, «приобретает себе братьев, не сыновей». Ведь сын — не полномочный представитель отца, а его отрицание. Безбрачие принципиально исключает для сына человеческого возможность стать отцом человеческим, объектом поклонения. Сын упраздняет иерархию в отношениях между богом и людьми, между духовным и природным началами человеческого существования, ставит знак равенства.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Метаэкология"
Книги похожие на "Метаэкология" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Валентин Красилов - Метаэкология"
Отзывы читателей о книге "Метаэкология", комментарии и мнения людей о произведении.