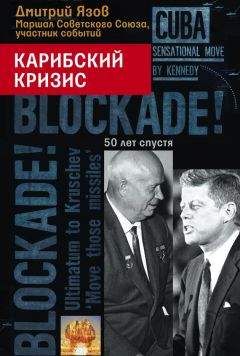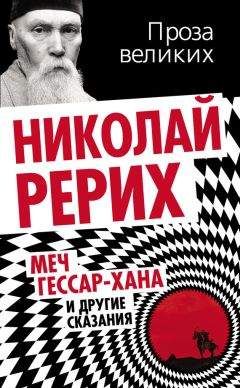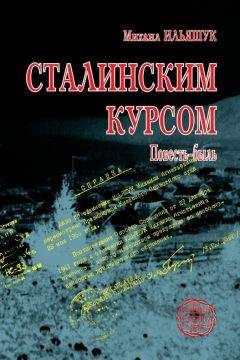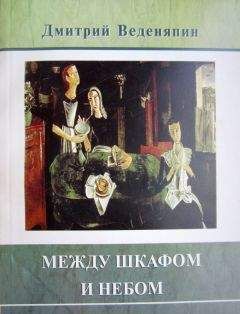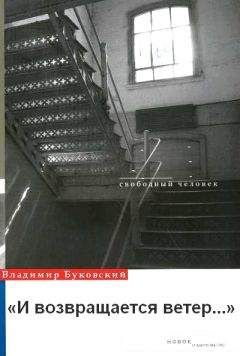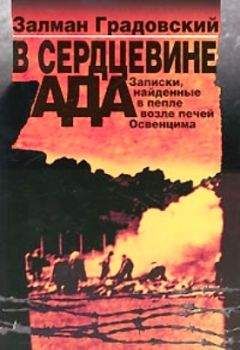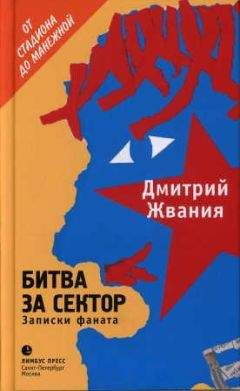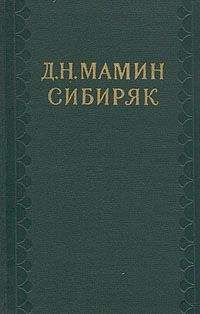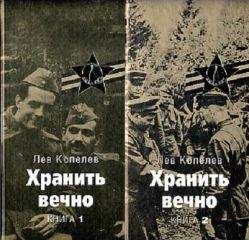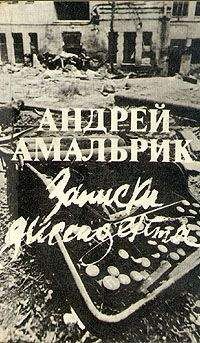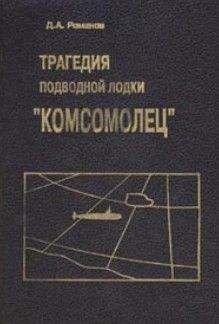Дмитрий Панин - Лубянка — Экибастуз. Лагерные записки
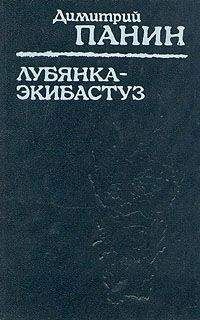
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Лубянка — Экибастуз. Лагерные записки"
Описание и краткое содержание "Лубянка — Экибастуз. Лагерные записки" читать бесплатно онлайн.
Дмитрий Михайлович Панин — прототип одного из главных персонажей романа Солженицына «В круге первом» Дмитрия Сологдина — находился в лагерях вместе с Солженицыным с 1947 по 1952 гг. и в каторжном лагере, описанном в «Одном дне Ивана Денисовича».
«Лубянка — Экибастуз. Лагерные записки» — автобиографическая проза христианского философа и ученого Димитрия Михайловича Панина, в которой он повествует о своем заключении в сталинских лагерях, размышляет о гибели Святой Руси, о трагедии русского народа, о противлении личности Злу.
Экибастуз в этом состоянии описан Солженицыным в его повести «Один день Ивана Денисовича» сквозь призму воображаемого работяги. Конечно, чтобы полностью описать особлаг, не хватит места даже в книге из десяти глав. И каждая будет посвящена только одному характерному слою населения лагеря, которое можно сгруппировать следующим образом:
— советские вояки: власовцы и пленники;
— партизаны;
— инженеры, а также другие интеллектуалы — люди мысли, искусства;
— молитвенники — протестанты и ярые отказчики — и другие сыны катакомбной церкви, а также сектанты;
— рядовые работяги;
— беглецы;
— чеченцы, ингуши, крымские татары, кабардинцы, балкары, калмыки, выселенные из родных мест и попавшие в лагеря;
— бандиты и уркаганы с политическими статьями (58–14);
— легионеры и солдаты дивизий СС, немецких и национальных;
— придурки;
— советские и партийные работники;
— стукачи;
— гады: начальство, чекисты, надзиратели, конвой;
— вольнонаёмные работники треста;
— активные борцы с чекистским произволом — организаторы центров возмущения.
В 1972 году в Женеве я посмотрел английский фильм «Один день Ивана Денисовича». Мне очень жаль, что я не был консультантом и не смог помочь кинофирме в осуществлении её прекрасного замысла. Актеры хорошие, режиссер добросовестный, сценарист чересчур старательный. Вот эта старательность и подвела: фильм является робкой иллюстрацией повести, а этого как раз делать не следовало.
В 1962 году повесть явилась прорывом лагерной тематики в советской литературе. Но, чтобы ее опубликовать в советском журнале, взяли соответствующую плату: описание слаженной и быстрой работы бригады каменщиков. Это была первая уступка. Такая работа была возможной и, может, даже имела место, но она была не типичной, не характерной для особлага и, в какой-то мере, даже обидной. В особлаге работали с прохладцей, и за процентами выработки не гнались. Первое время усердные работяги прихватывали часть обеденного перерыва, но мы покончили с таким положением насмешками и угрозами. Особлаговец быстро начинал себя чувствовать членом большой зэковской семьи, в которой хоть и не без урода, но замечательных людей тоже хватает, у них есть чему поучиться, их можно и следует послушать.
Второй уступкой было изображение бывшего коммуниста, морского офицера Буйновского в качестве героя-протестанта. Дружную работу перед самым концом смены ещё иногда можно было наблюдать, особенно, когда деловой цикл требовал завершения, но выходка Буйновского на разводе, где он протестует как коммунист, исключалась в обстановке особлага, ибо означала саморазоблачение — она могла исходить только от сторонника сталинского режима, следовательно, от пособника чекистов. Немногие бывшие коммунисты боялись этого, как огня. О своих коммунистических идеалах, если у кого они и остались, они могли говорить беспрепятственно только в кабинете чекиста и при этом от них требовали немедленного доказательства на деле искренности их заявлений, то есть превращения в стукачей. В особлаге на это шли далеко не все, а некоторые даже проклинали свое коммунистическое прошлое. Прообразом Буйновского: в лагере был капитан второго ранга Бурковский —. человек крайне ограниченный, чтобы не сказать глупый. Наши объяснения в одно его ухо входили, а в другое выходили. Хорошо хоть, что он не превратился в стукача, ибо мы его не раз предупреждали. В его голове не могла родиться мысль ни о каком протесте: он был службист до мозга костей и добровольный раб сталинской деспотии.
Приходится слышать упрёк, что Солженицын идеализировал Ивана Денисовича. Это неверно, и чтобы это понять, следует разобраться в обстановке. Времена, когда в России были патриархальные крестьянские и рабочие семьи, — в далеком прошлом. Пресс безбожного развала душ действовал на все слои населения и в первую очередь — на горожан. Несмотря на это, немало горожан оказались более стойкими к пропаганде и направленному на них насилию, чем несчастные жители обезглавленной, исковерканной деревни. Стойкость определялась верой в Бога, умственным развитием, общением с более опытными и развитыми людьми.
Но и в деревне, благодаря её более обособленному от коммунистического агитационного пресса существованию, имелось также немало хорошо разобравшихся в главном людей. Одним из них был Денисыч. Если Денисычу хватило ума со всеми другими сдаться в плен, когда немцев ждали как освободителей, и убежать от Гитлера как только стало ясным, что он явился как захватчик, то он догадался бы не рассказывать свою одиссею армейским чекистам по прибытии в советский штаб. Но там его запутали, сличили его показания с другими, дали очные ставки, и пришлось признаться.
Формула Денисыча: «что не сработано честным трудом, то и не заработано» — несёт в себе не только отголосок стародавних времен, но и требования, предъявляемые в любую эпоху к мастеру своего дела. Даже в лагерях, с туфтой и отвращением к рабскому труду, мастер отвечал головой за работу и одновременно кормил себя и подручных. С такой оговоркой эту формулу можно принять как рабочую установку, а не отжившую погремушку. Внутренний мир Ивана Денисовича дан Солженицыным правдиво и типичен для миллионов людей, исковерканных безбожной системой.
Глава 19. На каторге (Продолжение)
Отпор террору чекистов
Осенью пятидесятого я перешел на инженерную работу по восстановлению кислородной установки и одновременно занимался для себя объяснением механики на квантовом уровне. Я возобновил свои воркутинские бдения: на этот раз так же подымался в четыре утра и работал почти до семи над своими изысканиями; из зэковского десятичасового рабочего дня ухитрялся выхватывать тоже часа два, вечером спал до поверки, затем бодрствовал до двенадцати ночи. Я был поглощен своими поисками и для друзей оставлял только выходной и вечер накануне. От людей я окончательно не оторвался, но сильно ограничил свою активность и вмешательство в дела заключенных. За время этапа и первых двух месяцев на общих работах я постарался передать ближним свой опыт, установки и заповеди, особенно налегая на те, что требовали борьбы и преодоления сопротивления. Я договорился с товарищами, что в случае необходимости всегда постараюсь помочь, но просил не привлекать меня к обсуждению повседневных дел. Одновременно я добился, чтоб Солженицына вообще оставили в покое и не отвлекали от его творческих планов.
События подкрались удивительно незаметно. На этап из Долинки в первое время не обратили внимания. Лишь недели через две дошли слухи, что в Долинке, где было такое же, как наше, отделение Песчанлага, произошел какой-то шум и пожар, — скорей поджог. Разнесся слух, что среди долинцев нет ни одного стукача и они имеют возможность разговаривать в бригаде громко о том, о чем мы только вполголоса поверяли хорошим знакомым. На работе они вели себя тоже как-то необычно: загорали, много сидели и разговаривали, курили. На замечания прикрепленного к объекту надзирателя, который обязан был раз в день наведываться в разное время, чтобы пресекать нарушения, они вежливо отвечали, что не его дело вмешиваться в производственные дела бригады. Когда надзиратель угрожал записать номер отвечавшего зэка, ему вежливо, но твердо заявляли, что они все так говорят и пусть он записывает всех подряд… У вольнонаёмных прорабов, десятников, представителей треста они потребовали, чтобы наряди были заранее выписаны и выданы им на руки. Затем нагло обсуждали каждую норму, объясняли её нереальность, говорили, что она придумана идиотом либо циркачом. Предлагали нормировщикам сначала показать своими руками возможность выполнения записанного в наряде, а они тем временем посидят, покурят и посмотрят. Торговля проходила в атмосфере шуток, подначек и приводила к максимально благоприятным нормам, в которых учитывались все необходимые подсобные, вспомогательные работы, и бригада шутя-играючи вырабатывала свой гарантийный паёк. Вечером, когда надзиратель вызывал кого-либо для отправки в карцер или в бур, ему вежливо объясняли, что у Мыколы или Стасика живот сегодня разболелся и одного его не отпустят, но раз виноваты все, — не отказываются вместе туда проследовать. Если надзиратель пробовал схватить за руку «Стасика», то перед ним вырастала стена из его собригадников. При этом все улыбались, разговаривали приветливо, предлагали закурить… Начальство поняло, что потеряло способность управлять этими людьми, а без стукачей невозможно было узнать, что зэки говорят, думают, намереваются делать, кто зачинщики… Было принято решение расформировать долинцев и раскидать их по остальным бригадам. Долинцы были в основном бандеровцами, власовцами, литовскими робингудами. Молодые парни хорошо познакомились за время лесной партизанской войны с автоматами и пулеметами, но обзавестись гражданскими профессиями не успели, поэтому к нам в мехмастерскую никто из них не попал.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Лубянка — Экибастуз. Лагерные записки"
Книги похожие на "Лубянка — Экибастуз. Лагерные записки" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Дмитрий Панин - Лубянка — Экибастуз. Лагерные записки"
Отзывы читателей о книге "Лубянка — Экибастуз. Лагерные записки", комментарии и мнения людей о произведении.