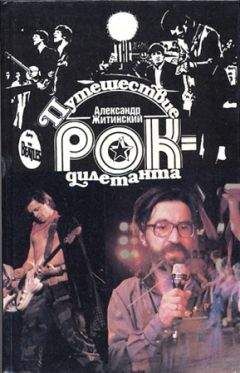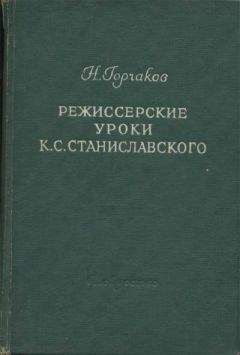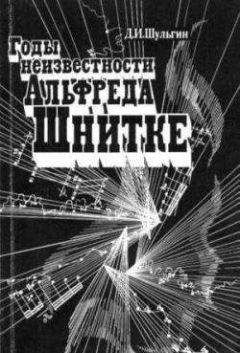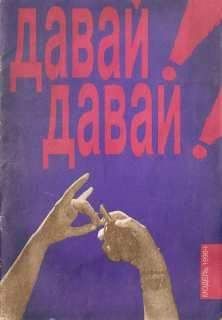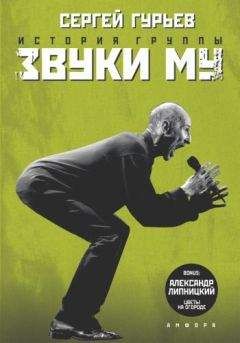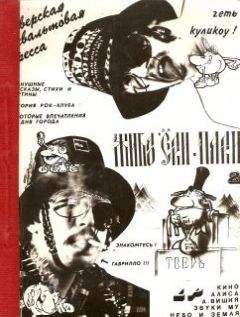Н Лейдерман - Современная русская литература - 1950-1990-е годы (Том 2, 1968-1990)
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Современная русская литература - 1950-1990-е годы (Том 2, 1968-1990)"
Описание и краткое содержание "Современная русская литература - 1950-1990-е годы (Том 2, 1968-1990)" читать бесплатно онлайн.
Появление этого течения в современной литературе было почти одновременно зафиксировано критиками самой разной эстетической ориентации неофрейдистом Михаилом Золотоносовым*332, "социологом" Натальей Ивановой*333, теоретиком и идеологом русского постмодернизма Михаилом Эпштейном*334. Каждый из этих критиков интерпретировал неосентименталистскую тенденцию по-своему, в соответствии со своей интерпретацией выбирая представителей тенденции: Людмила Улицкая (Золотоносов), Толстая и Петрушевская (Иванова), Кибиров и даже Пригов (Эпштейн). Такой широкий разброс может и смутить, но он показателен для статуса неосентиментализма в современной российской культуре. Именно на почве неосентиментализма встречаются, с одной стороны, маргиналы постмодернизма - такие как Тимур Кибиров, Анатолий Королев, Александр Кабаков, Алексей Слаповский (особенно в повестях из цикла "Общедоступный песенник") и покойный "певец подпольной Москвы" Евгений Харитонов, а с другой - маргиналы реализма и соцреализма, такие как Людмила Улицкая, Марина Палей, Галина Щербакова, Марина Вишневецкая, драматург Николай Коляда (В. Литвинов вводит в этот контекст и М. Жванецкого*335). Особенно ярко эта же тенденция реализовалась в постсоветской массовой культуре - в репертуаре Аллы Пугачевой, Тани Булановой, Ирины Аллегровой, группы "Любэ", в амбициозном "Русском проекте" Д. Евстигнеева и его же "Маме", в переводном и "самодельном" женском романе в глянцевой обложке, в совершенно обвальной популярности мексиканских и бразильских мыльных опер, превратившихся из строчки телепрограммы в серьезный фактор национального самосознания. К сожалению, именно последние явления все чаще заслоняют подлинный потенциал течения, которое отнюдь не сводится к банальной слезливости и натужной пасторальности - и лишь условно может быть названо неосентименталистским.
Условность этого обозначения связана с серьезной переакцентировкой собственно сентименталистской традиции, происходящей в 1990-е годы.
С одной стороны, "новая сентиментальность" по пафосу своему противоположна постмодернистскому скепсису и возвращает к традициям художественной системы романтического типа. Романтическую систему относят ко вторичным "большим стилям". Но это справедливо только с точки зрения генезиса системы. Исторически же романтическая система за два века своего существования превратилась в весомое явление духовной жизни, и ее культурный "багаж" не менее объективно значим, чем "некультурный" опыт, к которому апеллируют первичные системы. То, что делает неосентиментализм в 1980 - 1990-е годы, прямо противоположно тому, чем занимается постмодернизм. Последний дискредитирует не только фантомы культуры, он превращает в "симулякры" даже ту реальность, которая преломлена в культурном опыте. А "новый сентиментализм" уже обращается к романтическому мифу как к онтологической реальности. В произведениях "нового сентиментализма" актуализируется память культурных архетипов, наполненных высоким духовным смыслом: образы пушкинской сказки и андерсеновской "Снежной королевы" у Коляды ("Сказка о мертвой царевне", "Ключи от Лёрраха"), мотив Медеи у Л. Улицкой ("Медея и ее дети"), параллель с феллиниевской Кабирией у М. Палей ("Кабирия с Обводного канала"), травестирование сюжета о благородном рыцаре - верном слуге своей Дамы в повести Г. Щербаковой "У ног лежачих женщин", но эти архетипы не канонизированы, они сдвинуты из своих семантических гнезд, а главное - в отличие от прежнего неосентиментализма, они не находятся в непримиримом антагонизме с окружающей их "чернухой". Отношения тут сложнее - и отталкивание, и нахождение черт сходства, и озарение порывом из "чернушного дна" к свету, излучаемому архетипическим образом.
В то же время страдающие или, наоборот, ищущие наслаждения тела становятся центральными персонажами этой литературы. В этом смысле очевидное родство обнаруживается между поэмами Тимура Кибирова "Сортиры" и "Элеонора", в которых нереализованная сексуальность советского подростка или солдата срочной службы отождествляется с единственно значимым, хотя искаженным и задавленным, смыслом несвободного существования; и повестью Марины Палей "Кабирия с Обводного канала" (1991), в которой тело бескорыстно любящей мужской пол Моньки Рыбной вырастает в трагикомический символ природы, вечно обновляющейся жизни, неисчерпаемой витальности; романом Анатолия Королева "Эрон" (1994), в котором гонка тела за наслаждением представлена как главный сюжет целой эпохи, и романом Александра Кабакова "Последний герой" (1995), где совокупление главных героев, специально для этого акта выдерживающих длительную муку неутоленного влечения друг к другу, выводит из строя компьютерную сеть государственной дезинформации и вообще влечет за собой новую революцию. Телесность выступает на первый план в результате глобального разочарования в разуме и его порождениях - утопиях, концепциях, идеологиях. Разумность воспринимается как источник фикций, симулякров. Тело же выступает как неотменимая подлинность. И чувства, окружающие жизнь тела, признаются единственно несимулятивными. Среди этих чувств самое почетное место занимает жалость, становящаяся синонимом гуманности*336. Точнее будет сказать, что новый сентиментализм ищет язык, в котором телесные функции приобрели бы духовное значение. Сексуальность осознается здесь как поиск диалога. Единственным спасением для человека оказывается способность отдать свое тело другому.
Почему возникает это сращение телесности и сентиментальности - начал, казалось бы, противоположных? Телесное обычно принадлежало к ведомству несентиментального натурализма, а сентиментализм был традиционно бестелесен.
Разумеется, не всякая телесность в современной русской литературе порождает сентиментализм. Скажем, Владимир Сорокин в своей прозе отчетливо телесен, но совсем не сентиментален. У Сорокина есть телесность как абстрактная категория, но нет страдающего конкретного тела, ведь его "герои" всего лишь функции властного (как правило, соцреалистического или "классического") языка.
Очевидно, что постмодернизм - не менее важный источник такого неосентиментализма, чем натурализм. Постмодернисты типа Т. Кибирова или А. Королева или того же М. Эпштейна, написавшего, совершенно в духе "новой искренности", трогательный роман-эссе "Отцовство", приходят к телесности и связанным с ней сентименталистским и сенсуалистским темам, как к тому, что замещает окончательно деконструированные идеологии и утопии, подобно траве, растущей на руинах когда-то авторитетных идеологий; как к "пост"-языку, не отсылающему ни к каким абстрактным смыслам и не нуждающемуся в категории "истины" вообще. Тут бессмысленны поиски "правды", поскольку телесный опыт одного неприменим к другому - разве что в сугубо медицинском смысле. Сентиментальность в этой интерпретации в принципе не может выражать какие-то вне- или надличные значения - она воплощает принципиальную единичность смысла.
Художественно-философские возможности и границы синтеза натурализма и сентиментализма отчетливо видны на примере драматургии Николая Коляды, самого репертуарного автора 1990-х годов.
Драматургия Н. Коляды
Постсоветский быт и онтологический хаос
Когда появились первые пьесы Николая Коляды (р. 1957), они сразу же были восприняты как натуралистический сколок с "постсоветской" действительности. До зубной боли приевшиеся черты скудного быта, жалкий неуют, квартирные склоки, незамысловатые развлечения, пьяные разборки, подзаборный слэнг, короче говоря - "чернуха". Но с самого начала в вызывающе "физиологической" фактурности сцен ощущалось нечто большее, чем простое натуралистическое "удвоение".
Присмотримся к сцене. Коляда всегда тщательно описывает сценическую площадку. Вот ремарки из разных пьес 1980 - 1990-х годов: "много ненужных, бесполезных вещей", "мебель из дома пора выкинуть на свалку", "груды мусора, пустые бутылки, мутные стаканы. . . " С этим грубо натуралистическим декорумом причудливо сочетаются "маленький коврик с райскими птицами и желтыми кистями", "сладкий, как патока, портрет-календарь певца Александра Серова" ("Мурлин Мурло"), детские качели ("Чайка спела" и "Манекен"), елочная гирлянда, часы с кукушкой ("Полонез Огинского"). На сцене почти всегда присутствует какая-то живность, как в цирковом аттракционе (кошка в "Манекене", "собака, огромная, как теленок" в "Сказке о мертвой царевне", белый гусь в "Полонезе Огинского"). И на каждой сценической площадке есть какая-то предметная деталь, которая связана со смертью.
Так какое время и место запечатлено в этом сценическом хронотопе? Ответ не заставит себя ждать: время - "наши дни", место - постсоветская Россия, причем в ее самом задубелом, т. е. провинциальном обличье (чаще всего место действия - "провинциальный городок", "пригород"). И в то же время хаотическое нагромождение и "ассортимент" предметов, заполняющих сцену, вызывают впечатление странности, невзаправдашности - это какая-то ирреальная реальность, какой-то сюрреалистический абсурд.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Современная русская литература - 1950-1990-е годы (Том 2, 1968-1990)"
Книги похожие на "Современная русская литература - 1950-1990-е годы (Том 2, 1968-1990)" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Н Лейдерман - Современная русская литература - 1950-1990-е годы (Том 2, 1968-1990)"
Отзывы читателей о книге "Современная русская литература - 1950-1990-е годы (Том 2, 1968-1990)", комментарии и мнения людей о произведении.