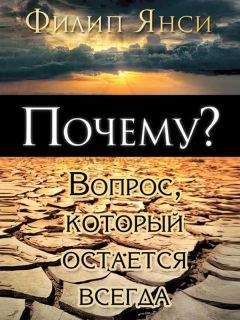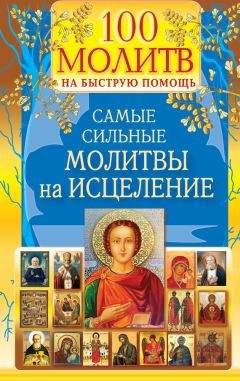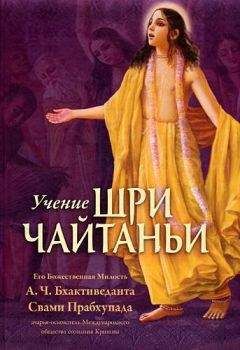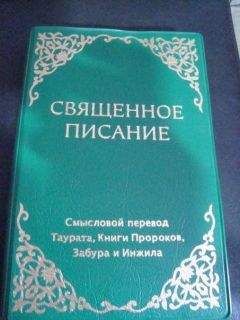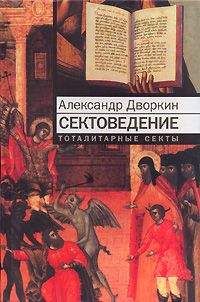Вадим Рабинович - Исповедь книгочея, который учил букве, а укреплял дух
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Исповедь книгочея, который учил букве, а укреплял дух"
Описание и краткое содержание "Исповедь книгочея, который учил букве, а укреплял дух" читать бесплатно онлайн.
В результате - глаза в глаза - сошлись две жизни на чистом листе изошедшего в молчание текста:
жизнь Иисуса Христа, который (цитирую в третий раз) "пожелал воссесть в двенадцатилетнем возрасте среди учителей и спрашивать, скорее являя нам образ учащегося в вопрошании, чем образ учащего в высказывании, хотя тем не менее он обладал полной и совершенной божественной мудростью";
жизнь Петра Абеляра в истории его бедствий, да и в других историях, ставших ответами на вопросы ученого книгочея, обращенные им к тексту, в том числе и к священному. Текст священного Писания и текстологические штудии Абеляра стали человеческими действиями-поступками, определившими судьбы их совершивших.
Сигнал об исчерпании в самой себе книгочейской учености Петра Абеляра?
То, что осталось от текста, - геометрически безупречная капля дистиллированной воды - святой воды; окончательно округлое и окончательно правильное последнее слово-смысл.
Явление Абеляра на кафедре всеевропейского всеученейшего семинария было очень заметным, очень важным явлением.
"Семь свободных искусств" ранней школы в школах XI и XII веков всё более творчески развивают свой гуманитарный тривий, создавая в рамках диалектики настоящую религиозно-философскую науку. Приняв за метод, предложенный Абеляром "да" и "нет", выявление противоположностей, диалектический анализ содержания, за форму преподавания - диспут, эта школа внесла в знание плодотворный дух борьбы, углубила, в надежде на их высший синтез, естественные антиномии религиозности", - пишет O. A. Добиаш-Рождественская.
Еще раз по тексту.
"...Так как тождество во всем является матерью пресыщения... то надлежит изменять сами слова по отношению к одному и тому же предмету..." Анатомирующее, творческое, мастерски-исследовательское чтение.
"...Любить в словах их истину, а не сами слова". Их-то, слова, как раз и следует обсуждать, исправлять, подправлять, отбрасывать, заменять. Чтение без почтения, но ради высокочтимого смысла.
Больше вопросов, нежели ответов на них. Таков книгочейский императив магистра Петра Абеляра, мастера в области научения (и умения) читать текст.
"...Ложь... грех, который существует скорее согласно намерению говорящего, чем согласно содержанию сказанного". Вот, оказывается, в чем оправдание критики текста: оно, помимо случайных накладок в текстосложении, - еще в намерении говорящего (пишущего) слово. Авторитет может - и должен - быть поколеблен. Со всех сторон: в сфере субъективных отступлений от истинного слова; в сфере моральной (неистинолюбивая суть авторитета, сказавшего слово).
В результате: не принять за достоверное, а понять как достоверное. Еще один императив урока Абеляра: учить читать. Пафос понимания. Понимание слова веры, в конце концов!
Отсюда еще одна максима: "...первым ключом мудрости является постоянное и частое вопрошение..." в "да-нетной" ситуации критического чтения текста.
Что же получается?
В усредненной, как бы для всех, учености Алкуина, представленной в научении учить и завершившейся в окончательном неумении чему-либо научить, демонстрируется стремление передать слово казусное, чтобы таким вот способом передать слово истинное. От слова-казуса к слову-истине. От умения (через умение) - к Смыслу, загаданному в слове о мире - во всецелой самоценной удивительности этого мира, каждой его вещи. Две опоры: передать слово как истину; передать слово как казус: случай и загадку...
Что же на выходах?
В прошлое - Августин, только-только устанавливающий отношение к слову; Слову высочайшей, неколебимой авторитетности, должному быть схваченному уникальным, лично-неповторимым способом, созидаемым в личном, уникальном, именно самим им добытом, выстраданном, пережитом опыте собственной судьбы, души, воления. При этом слово (текст, смысл) незыблемо, в себе самом уравновешено, авторитетно, авторитарно, хоть и сказано как личное, неповторимое, единственное слово. Лицо с отсветами всезначащего лика. Быть таким вот лицом... Еще одна возможная (?) невозможность...
В будущее - Абеляр, расшатывающий авторитетность текста, разрушающий его твердокаменность, обнаруживающий не столько его истинное бытие, сколько истиноподобное его существование. Обнаруживающий его неустойчивость, неустроенность и потому единственность. Причем эта неуравновешенность обнаруживается в тексте с самого первого шага - как только Абеляр приступает к его чтению. Разработка научения читать текст и есть Абелярова учительская ученость в сфере чтения. Но вся эта наука лишь при полной развернутости колеблет текст в его исходных основаниях, обнаруживая его глубинную "основательную" - неуравновешенность. Все становится истиноподобным, и ничто - истинным. Всеобщий смысл-текст, по ходу саморазвивающегося по собственной логике научения - умения читать, освобождает сам себя, будучи до конца прочитанным, от какой бы то ни было святости - авторитетности, представая внимательному словоиспытательскому взору читателя ничтожным и немощным смыслом. Нет! Вовсе даже не смыслом, а Христом-учеником, Христом-человеком, готовым внимать всему и всем - сложить собственную свою голову в этой личной и единственной жертвенно человеческой всеготовности, чтобы стать - тем и стать! - словом-образом-авторитетом-смыслом для всех: всесильным и всемогущим.
Личный опыт - в "учебник" для всех? Мгновение смертной жизни представить как длящееся вечно?..
Такова диалектика этой учености, при которой умение читать текст тотчас же оборачивается глубинным разрушением иного, тоже по преимуществу средневекового, умения - умения чтить текст. Потому что уметь чтить текст как раз и означает не уметь (в Абеляровом смысле) его читать.
В результате, как и прежде: научить читать текст невозможно. Но возможно читать-чтить его: верить начертанному, всей душою проживать начертанное, будучи наведенным на смысл начертанного всею мощью школярской выучки, всею праздничностью магистерской игры.
Еще одна ученая иллюзия, искушение которой оказалось совершенно необходимым в культуре европейского средневековья - культуре авторитетных текстов.
Но что такое авторитетный - для средних веков, конечно - текст? Это, во-первых, авторитарный текст, а во-вторых, личностно-уникальный текст. "Да и нет" Абеляра как раз и обнаруживает внутреннюю, исторически и логически обусловленную, противоречивость средневекового текста. Учёным образом обнаруживает.
Но, обнаружив сие, тот же метод "да" и "нет" обнаруживает и другое: принципиальную нетождественность ученого человека средних веков, по-абеляровски читающего текст, и среднего человека тех же веков, чтущего текст.
Проверка - вера...
Больше того. Для среднего средневекового человека есть своя, для него писанная, усредненная в социуме средневековая ученость (не художественно, как у Алкуина, представленная, а попросту - ученость середняков). Она-то как раз и прихлопнула на время (а думала, что навсегда) магистра Петра Абеляра.
Еще раз: Алкуин посередине. Августин (до) и Абеляр (после) лишь вкупе осуществляют книжно-учительское дело средневековья ради просветления через слово и в слове еще не высветленной, не проявленной жизни, отвечая на следующие вопросы:
Как научить увидеть (?) того, кто произносит слово, и тем самым быть в этом мире? ("Пророческая" миссия Августина);
Как научить восстанавливать текст? ("Ремесленная" миссия Абеляра).
В том и в другом случае результат есть смысл: слово-смысл. Авторитетный текст-смысл; авторитарный; личностно-уникальный.
Личный опыт - всем, всем, всем... И это не просто логическая школьно-магистерская - установка, а боль души и мучение ума: томление умной души о мысли - мире - человеке.
Но учительская ученость в эти учено-боголюбивые (?) средние века каждый раз снимает себя в неученом неумении. В жизни по вере, в полноте своей и в пределе своем даже в искушении ученостью не нуждающейся ("экзистенциальная" миссия Франциска-святого).
Собственно же учащий и учимый человек - посередине: меж Августином и Абеляром. Точнее: образ Алкуина-учителя - посередине.
Но как раз не Алкуинова типа люди ополчатся на Абеляра, а средне-средневековые его коллеги, и именно на того Петра Абеляра, который сам себя и выписал - на автопортрете, представленном в собственном его тексте, посвященном тексту же...
Но прежде еще один его автопортрет - в тексте побочном, так сказать, не ученом его тексте.
Кто же он такой - Петр Абеляр? Ну, хотя бы и прежде всего, на взгляд самого Абеляра, - Абеляра-"беллетриста", автора-воспоминателя; не исповедника, а скорее историка самого себя.
"История моих бедствий" (между 1132 и 1136 годами).
"ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЧУВСТВА часто сильнее возбуждаются или смягчаются примерами, чем словами. Поэтому после утешения в личной беседе я решил написать тебе, отсутствующему, утешительное послание с изложением пережитых мною бедствий, чтобы, сравнивая с моими, ты признал свои собственные невзгоды или ничтожными, или незначительными и легче переносил их", - так начинает этот мученик свой исповедальный (нет, скорее - исторический) плач по самому себе, не скрывая учительского назначения своего сочинения, в котором первейший инструмент научения - не слово, а пример, то есть момент прожитой и пережитой заново (на этот раз в слове) жизни. Самоценной и причастной только (?) самой себе...
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Исповедь книгочея, который учил букве, а укреплял дух"
Книги похожие на "Исповедь книгочея, который учил букве, а укреплял дух" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Вадим Рабинович - Исповедь книгочея, который учил букве, а укреплял дух"
Отзывы читателей о книге "Исповедь книгочея, который учил букве, а укреплял дух", комментарии и мнения людей о произведении.