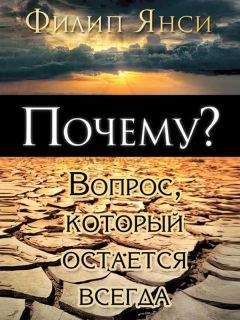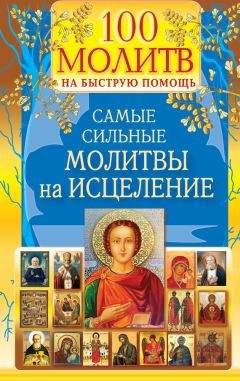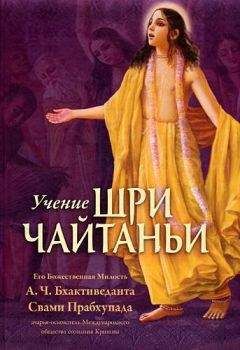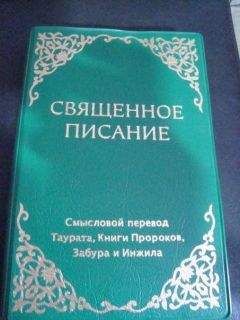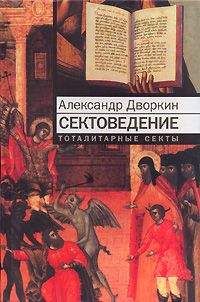Вадим Рабинович - Исповедь книгочея, который учил букве, а укреплял дух
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Исповедь книгочея, который учил букве, а укреплял дух"
Описание и краткое содержание "Исповедь книгочея, который учил букве, а укреплял дух" читать бесплатно онлайн.
"Слово стало плотью, в нее не обратившись". Это Августин. Но слово есть Свет. Значит, и плоть есть свет. Мир как система вещей - тоже свет (и как воплощения света - цвета вещей мира). Он же и божественный свет, годный для явления человеку, для просветления его же, для высветления смыслов - Смысла. Отсюда научение Свету. Научение свету? Не странно ли? А может быть, (само)воспитание для восприятия светозарных мгновений явленности вещей? От вещи - к воспитанному глазу - оку души? Разработка и развитие этой медитативной педагогики на уровне разноречий-разночтений сначала объективирует слово слушаемое (текст читаемый), а потом и смысл, по поводу которого и о котором сложен текст. Слушаемое (выучиваемое) становится видимым (постигаемым).
Конечно же, светолюбие - общечеловеческий феномен, но в христианской культуре средних веков Свет - дело особое. Это свет тихий, невечерний. Он противостоит адскому огню, который не светит, но жжет (сравните с Данте). Свет устрояет, а мрак - начало разрушительное, хоть и определяется апофатически - как отсутствие света. Он про-светляет (осветляет, высветляет). Светом поощряют, а мраком наказывают: "Муки видимы", но сами они "не узрят света вовек".
Роберт Гроссетест (XIII век) - вновь резюме из века порубежного: "Поскольку истина каждой вещи состоит в ее согласии с божественным словом, ясно, что каждая выявленная истина очевидна в свете высшей истины... цвет окрашивает тело только при свете, разлитом над ним".
Истина каждой вещи соотнесена со словом бога и может быть явлена в свете (обратите внимание: в свете!) высшей истины. Свет божественной истины формирует, лепит слово о вещи, о ее смысле, делает это слово удобопреподаваемым. Но только слово о вещи-смысле, но не самое вещь-смысл. Сам же смысл в его естественной данности - цветовой его выявленности - тоже формируется, обозначается, является уже не слуху, а взору, - тоже при санкции (участии) света. Но света физического. "Цвет окрашивает тело только при свете, разлитом над ним". Как видим, формирование слова о вещи, обращенного к слуху, и формирование вещи, обращенной к зрению, уподоблены, потому что и то, и другое формирование происходит при свете метафизическом и физическом. Вещь дана взору, но может быть познана только в слове о ней, доносящем ее смысл, причастный к смыслу смыслов - Первослову. Вновь разлад: вещь, данная взору в ее всецелой полноте (чистое созерцание); но и... слово о ней, глядящее в беспредельные выси, в которых Слово-свет. А вещь - вновь обессловленна. Но и само слово должно познать, а для этого нужно знание об умении знать слова. Знание об умении в сфере слов и есть знание, равное деянию средневекового ученого книжника. Это и есть его опыт, его жизнедействие. Долг стража буквы. При этом свет божественный, свет истины формирует слово о вещи, но и человека, взыскующего этой истины, воспитует его, создает - просветляет. Физический же свет формирует вещь, но с нею и человека, познающего слово о вещи, ибо познание построения, лепки вещи тождественно познанию ее самой, и потому тоже сводится к воспроизводству божиего - истинного - человека. В этой ситуации человек и вещь слиты, ибо правила создания вещи есть сама вещь. Полная слитность (тождественность) в идеале, но разрыв, зазор в действительности. Таков, например, средневековый мастер-ремесленник. Демиург. Пророк - иное. Он - возвеститель всеобщего, не своего - божиего - слова. Ученый книжный человек - меж. Между Пророком и ремесленником. Но каким образом он между? Он - постоянный возделыватель поля разноречий - разночтений -...разномыслий.
В умозрении Гроссетеста свет представлен как два света: метафизический и физический; свет слышимый и свет видимый. Но в цельном сознании он един, хотя и бивалентен. Он есть та единственная реальность, равно принадлежащая и слову, и вещи. Он - слово-вещь; вербальное изображение и изображенное слово купно, слышимо-видимая субстанция с неизбежной возможностью воплотиться стать вещами, выявленными в цвете и противостоящими взору наблюдателя-испытателя. Но это уже другая эпоха - Новое время с его исследовательской объективной наукой.
А пока свет в таком вот понимании должен стать мерилом средневековой учености, ибо только толкуя и перетолковывая, комментируя и различая слова о свете, средневековый книжник рискует выйти на вещь, как выходят на медведя: платя за этот риск средневеково-ученым своим первородством. От слагателя слов о вещах и сочинителя фраз о мире (ради, конечно, их смыслов) к слагателю вещей мира и сочинителю мира вещей. От ученически жадного слуха к жадному естествоиспытательскому зрению... Но это только едва угадываемая возможность.
А теперь все это в контексте зрения и слуха.
Однажды некий падишах позвал своего философа и спрашивает: "Какая разница между Правдой и Ложью?" Философ ответил: "Как между глазами и ушами. Истинно то, что мы своими глазами видим, а что знаем на слух - ложь". Если бы этот разговор происходил в средние века - скажем, между Карлом Великим и Алкуином, - ответ Алкуина-учителя был бы прямо противоположным. Истинное слово (точнее: слово истины), в расчете на услышанность, и вид, то есть то, что для зрения, противостоят друг другу. Но таким образом противостоят, что слово вещает о божественной правде, а вещь - если не обман, то, по крайней мере, тень правды и как тень правды оглашена словом. Слово вещает, а вещь гласит словом. Или еще резче: слово вещно, а вещь оглашена, озвучена. Странным образом, но именно так. Творческое овеществленное слово учит о мире вещей, учит и того, кто учится и учит, - формирует человека наученного как персонифицированное слово божие, правда, не в точности само это слово, а такое, которое сделано по образу и подобию божиего слова (как и человек венец и микрокосмос). Понятно, что Первослово усвояемо лишь в идеале, как, впрочем, и подлинный вид вещей лицезрим тоже только в идеале. Поэтому средневековый человек мог бы сказать так: "Лучшее, что я слышал, тишина; лучшее, что я видел, - темнота". Апофатически достигаемый идеал. Но ни тишине, ни темноте научить нельзя. Можно научить слову через просветленное слово, а вещи - через видимые, освещенные ее очертания - цвета, оттенки, контуры. То есть через все то, что высвечено, высветлено в вещи - что в ней явлено, оглашено. Но научение вещи - cum grano salis, конечно. Научение как про-светление: научить-восприять. Поэтому средневековый схоласт, пожалуй, сказал бы так: "Лучшее, что я видел, - тишина; лучшее, что я слышал, темнота". Аудиовизуальный парадокс, обнаруживающий еще один тип глубинной противоречивости учительско-ученической учености средних веков.
Конечно, материал для научения - артикулированное, препарируемое слово, а вещь, представленная в слове, должна быть взятой при свете дня. Но божие слово - безгласно и безвидно. В лучшем случае это неартикулированный звук и неконкретизированный слепящий свет. Едва ли случайно то, что средневековое пение, по преимуществу, - бессловное пение. Композитор Гильом из Машо (уже не наш - XIV - век, и все-таки) в песенном своем деле текст использовал редко. Сам же музыкальный текст (законченное произведение) - краток и плотен, как мгновение, но чреват всем, как божие Первослово, свидетельствующее вечность.
Все это не означает, конечно, что видимый мир, разглядываемый в простоте душевной нормальными и живыми глазами живого и нормального средневекового человека, так уж ничему его не учил. Ясно, что учил. Григорий Великий (VI век) епископу Массилину, в иконоборческом раже лишившему образов неграмотных людей, писал так: эти люди, "которые, смотря по крайней мере на стены, могли бы прочесть то, чего они не могут прочесть в рукописях... За то, что ты запретил поклонение иконам, мы тебя вообще хвалим; за то же, что ты их разбил, порицаем... одно дело поклоняться картине, другое - при помощи содержания узнавать то, чему нужно поклоняться". Слово и вид как средство познавательного научения в некотором смысле приравнены. Потому что вид лишь средство, наглядное учебное пособие, картинка, за которой все-таки слово о сути дела - смысле (или, точнее: слово как смысл), и именно ему, слову, собственно, и следует поклоняться. Изображение - начало просветленного знания, так сказать, начальная ступень ученичества. Зато сразу и в целом. Разновременные сюжеты живописных полотен средневековья предстают как квазиодновременные и потому лишены пространственной глубины: сведены к плоскости, выутюженной поверхности пространства. Но только так может быть схвачено слово, которое, напротив, объемно, а если слово к слову есть речь, - то и как развернутое во времени: движущееся, преподаваемое слово. "Ухо-глаз" - естественный человеческий орган восприятия божиего мира в средние века. Только спустя столетия глаз сможет видеть то, что видит, объемно, проникая в подспуд вышколенной плоской поверхности картинки мира: в глубины и в структуры вещей, а слово станет всего лишь инструментом, стилом - для рассказывания об увиденном. Ухо, как сказал Г. Д. Гачев, хочет видеть, а глаз - слышать. И правильно сказал. Но свет молнии - сразу, а звук протяжен. На палимпсестах слово само себя стирает и вновь изображает. Голос графичен, а линия вопиет. А пока средневековое слухо-зрение сопрягает (чает сопрячь) материю и дух, вещь и слово, вид и голос (логос - из тех же букв). Отсюда и синтетические формы учености (компиляции, компендии, энциклопедии, суммы). А цель этого сопряжения (и средство тоже) - свет: поучающий, то есть выговариваемый и выслушиваемый; просветляющий, то есть взирающий и видимый. Свет - цель и средство сразу; он же и метод. То есть вся ученая наука - вся ученость - просветляющее ученое дело. Деяние Мастера, длящегося в собственном изделии и светящегося Светом источника. Светом сформирован и про-свещать призван. Мастер Света. Doctor illuminatus... Не деревянное ли железо? П. Флоренский выстраивает светоряд: светоносец, светообразный, световершение, светодавец, светодержец, светоначальный, светоявление... светопреставление.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Исповедь книгочея, который учил букве, а укреплял дух"
Книги похожие на "Исповедь книгочея, который учил букве, а укреплял дух" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Вадим Рабинович - Исповедь книгочея, который учил букве, а укреплял дух"
Отзывы читателей о книге "Исповедь книгочея, который учил букве, а укреплял дух", комментарии и мнения людей о произведении.