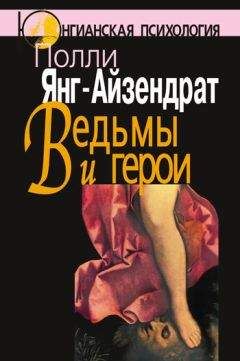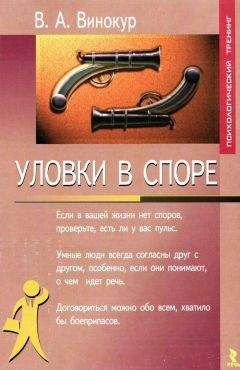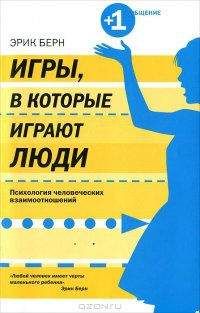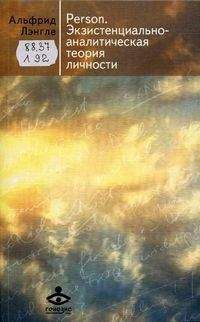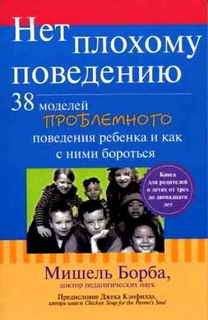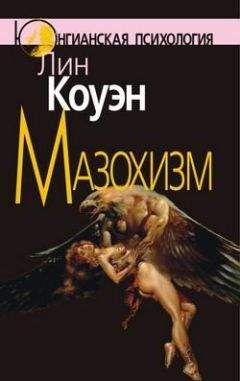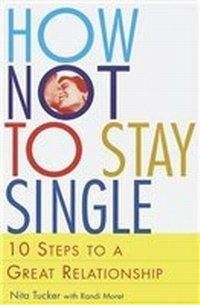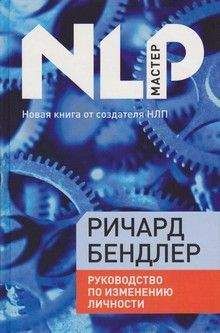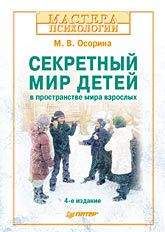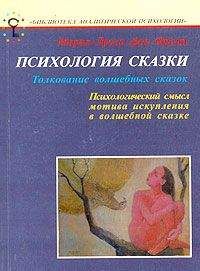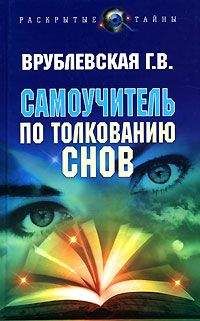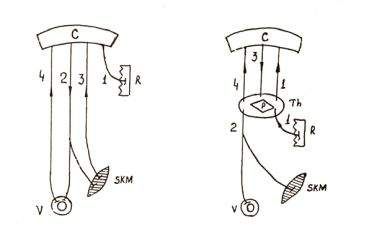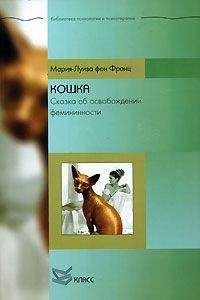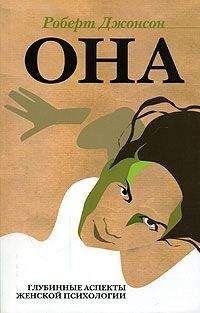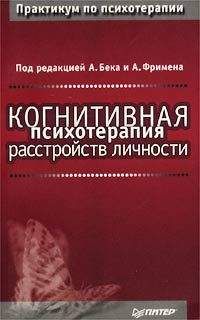Ханс Дикманн - Юнгианский анализ волшебных сказок. Сказание и иносказание
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Юнгианский анализ волшебных сказок. Сказание и иносказание"
Описание и краткое содержание "Юнгианский анализ волшебных сказок. Сказание и иносказание" читать бесплатно онлайн.
Сказки занимают большое место во внутреннем мире маленьких детей; оказывается, что сказочные мотивы играют важную роль не только в сознании взрослых людей, но и в их бессознательном.
Многочисленные случаи, описанные в книге Ханса Дикманна, вскрывают глубочайшие связи между любимой сказкой ребенка и его позднейшей судьбой; сказочные мотивы оказываются решающими для формирования личности как в положительном, так и в отрицательном смысле. В своей книге автор показывает, как сказка может влиять на поведение взрослых и на их психическую жизнь. Более того, он демонстрирует, каким образом можно использовать такое влияние для излечения патологического процесса.
В Приложении помещены главы из известной книги Ханса Дикманна «Методы аналитической психологии». В них подробно излагаются методы юнгианской психотерапии, в частности, объясняется их отличие от стандартных психоаналитических методик.
3. Перенос и контрперенос
Перенос и контрперенос — третья область, которая может быть исследована без вербального выражения со стороны пациента. Публикации Берлинской исследовательской группы подробно обсуждают, сколь различен инструмент узнавания, который мы имеем при внимательном наблюдении аналитиком всех тех чувств и фантазий, которые возникают у пациента и у самого аналитика с момента начала первой встречи и до самого конца интервью. Такое внимательное наблюдение и само есть источник информации относительно того, что переживает пациент. Из зафиксированного материала наших реакций контрпереноса мы можем, как правило, с большой уверенностью и ясностью разглядеть и перенос самого пациента и то амплуа, в котором формируется его поведение — последнее, в свою очередь, находится во взаимоотношении с его фундаментальным психическим конфликтом, например, ребенок, доверчиво тянущийся в протянутые руки матери, или возбужденный мальчик, боящийся строгого сурового отцовского наказания, или колдовски соблазнительное вечное дитя — puella aetema, — кокетничающее со своим анимусом, или мазохистически раболепный пациент, униженный своей тенью, взывающий к Великой Матери или Великому Отцу, умоляя о прощении. В любом случае, необходимо дать дифференцированное описание мира чувства и фантазии, констелли-рованного пациентом, и не ограничивать себя отчетом, выглядит ли пациент милым, приятным или наоборот, или способен ли он к контакту и взаимотношению. Осуществляя все это необходимо — в действительности об этом почти всегда забывают — осознавать, что в подобном процессе наличествует мощный субъективный фактор, и, соответственно, должно также принять в расчет свою собственную личность и структуру характера, относительно которых каждый должен быть осведомлен в процессе своего собственного обучающего анализа. Перенос и контрперенос всегда являются констелляциями между двумя человеческими существами, и как показывает наш опыт — с историей во втором случае, взятый готовящимися кандидатами, — при определенных обстоятельствах пациент может представить совершенно другую сторону своей личности другому аналитику, так же как характер второго анализа может полностью отличаться от первого. Конечно, нет необходимости настаивать, чтобы первый интервьюируемый эксгибиционистски описал бы свою собственную личность и собственные комплексы в первоначальном интервью. Это никоим образом не цель, а скорее первый и предварительный вопрос, касающийся способности аналитика включать эти факторы в свой рефлексивный процесс и быть осведомленным о том, что пациент часто создает совершенно иное впечатление у другого аналитика.
4. Типология
Четвертый пункт — попытка ухватить типологию пациента, занять позицию связующего звена между чистым наблюдением и присоединением вербального выражения. Здесь я намеренно говорю «попытка», потомучто мы все осознаем, что получение быстрого и дифференцированного понимания психологической типологии пациента — задача очень непростая. Часто проходит несколько лечебных часов, пока у аналитика не появляется слабая степень уверенности относительно типа, к которому пациент принадлежит. С другой стороны, мы не должны придавать этим трудностям слишком большое значение и тревожиться относительно возможных ошибок в диагнозе; прежде всего мы должны искать подтверждение наблюдаемого типологического материала, сопровождающего первоначальное интервью. Наш опыт говорит, что такое подтверждение полностью возможно после одночасового интервью. Во всех случаях мы были способны относительно быстро выяснить тип установки, так как экстравертная и интравертная установки часто могут быть ясно распознаны на основе внешности или поведения пациента. Почти всегда любая дополнительная информация из содержания, представленного в интервью, оказывалась соответствующей нашей первоначальной оценке. Способ, которым пациент представляет себя, обычно совершенно отчетливо демонстрирует, ориентируется ли он более на внешние объекты или на внутренние субъективные факторы. В этом отношении, диагноз, конечно, более труден, когда мы пытаемся оценить степень, до которой личность была подготовлена, обучена личной историей и влияниями среды, испытанными его подчиненной функцией. Это находит свое воплощение у исходно интровертной личности, пытающейся жить как экстраверт, и у изначально экстравертного индивида, стремящегося жить как интраверт. Хотя диагностика подобного состояния и важна терапевтически, сами методы, предоставленные в наше распоряжение, обычно позволяют нам распознать это только в процессе анализа, и в первоначальном интервью подобное возможно лишь в исключительных случаях.
Выяснение функциональных типов является более трудным, в особенности, идентификация двух иррациональных функций — ощущения и интуиции — оказывается проблематичной. Во время первоначального интервью относительно просто распознать, представляет ли пациент преобладающе рациональные функции и ориентирует ли свои суждения в терминах «правильно — неправильно», равно как и стремится ли работать преобладающе с мышлением и подавлять чувство, или же более ориентирован к симпатии-антипатии и ориентирован более на выражение чувств.
В противоположность этому, диагностика значения интуиции и ощущения требует проникающего обсуждения всего материала из первоначального интервью. Берлинская исследовательская группа часто не уверена относительно установления границ между первичными и вторичными функциями, — где они должны проходить, исключая, разумеется, типичные грубые примеры или случаи. Соответственно, в своих диагнозах мы начали с подчиненных функций, которые во многих случаях были представлены гораздо более ясно, чем развитые ведущие функции, и которые предшествовали моменту ясного различения между ведущими и вторичными функциями.
Как уже подробно объяснил Юнг (см.: «Психологические типы»), грубо односторонние типы являются крайними вариантами, и мы должны научиться воспринимать появление или присутствие смешанных форм, как более общий случай. Тем не менее сама попытка определения типологии пациента дело очень стоящее, так как в этом усилии можно также выстроить в ряд и уравнять симптоматологию с типологией. К несчастью, взаимоотношения между психопатологией и типологией, которые дал Юнг в приложении к своей работе о типологии, являются очень интуитивными и приблизительными во многих отношениях. К примеру, общее суждение, что среди женщин более преобладает чувственный тип, нежели среди мужчин, а мыслительный тип более чаще встречается среди мужчин, нежели у женщин, согласно недавнему эмпирическому исследованию (Gollner 1975) далеко от истины; его можно понять отчасти как результат влияния того времени, в котором жил Юнг.
Следуя одному из предложений Вильке (Wilke 1974), мы должны говорить здесь скорее о проблематической функции, нежели о ведущей или вторичной функции. В своих исследованиях депрессивных пациентов Вильке в большинстве случаев определял чувство как проблематическую функцию. Насколько можно судить, не трудно расширить каталог проблематических функций, включив туда оставшиеся три невротических структуры (хотя здесь детально я это не обсуждаю, так как, возможно, потребуется отдельное исследование). Я отметил, что ощущение является проблематической функцией для шизоида с большими лакунами в восприятии; навязчивость проблематичной функции представлена в мышлении, хотя в этом случае мышление совсем не должно быть ведущей функцией, так как жесткое и сверхмощное суперэго навязчивости имеет тенденцию скорее базироваться на суждениях морализирующих чувств, а не на логических умозаключениях. В случае же истерии, с другой стороны, интуиция должна рассматриваться как проблематичная функция, которая, благодаря своей заявленной изменяемости и недостаточной выносливости и прочности, играет значительную роль. Юнгианцы склонны пренебрегать этой областью типологии, и это было бы действительно ценным, если бы корреляция (связь) между типологией, с одной стороны, и структурами и синдромами, с другой, оказалась бы, в конце концов, реальной в более дифференцированном виде, давая обширный казуальный и клинический материал, доступный для нас в ближайшем будущем.
5. Содержание замечаний пациента
Хочу предуведомить свои замечания по этому вопросу, сказав, что считаю целесообразным и желательным уступить пациенту лидерство в начале интервью и дать возможность проявиться напряжению, натянутости, неловкости, оставаясь молчаливым в течение нескольких минут. Это предпочтительней, нежели направлять пациента стандартными вопросами типа «Что привело Вас ко мне?» или «Чем я могу Вам помочь?» или что-то в этом роде. Как показывает мой опыт, редко случается, чтобы пациент не начал говорить непроизвольно, когда аналитик дает понять, что он не готов направлять пациента своими вопросами. С помощью такой стратегии во многих случаях появляется возможность наблюдения исходной проблемы, схожей с изначальным сном, который пациент приносит на лечение. Это может быть представлено простым предложением «Доктор X. направил меня к вам», или рассказом о трудностях во взаимоотношениях, или описанием симптомов.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Юнгианский анализ волшебных сказок. Сказание и иносказание"
Книги похожие на "Юнгианский анализ волшебных сказок. Сказание и иносказание" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Ханс Дикманн - Юнгианский анализ волшебных сказок. Сказание и иносказание"
Отзывы читателей о книге "Юнгианский анализ волшебных сказок. Сказание и иносказание", комментарии и мнения людей о произведении.