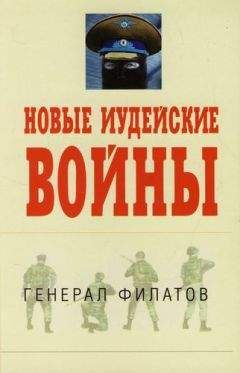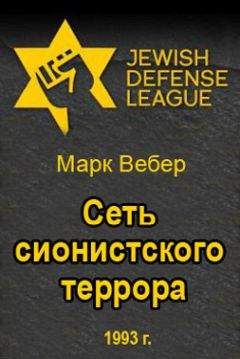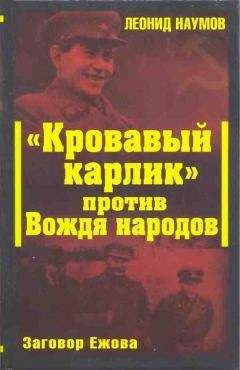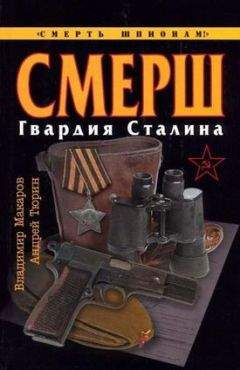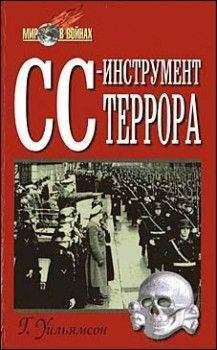Энн Эпплбаум - Паутина Большого террора

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Паутина Большого террора"
Описание и краткое содержание "Паутина Большого террора" читать бесплатно онлайн.
Эта книга, отмеченная Пулитцеровской премией, — самое документированное исследование эволюции советской репрессивной системы Главного управления лагерей — от ее создания вскоре после 1917 г. до демонтажа в 1986 г. Неотделимый от истории страны ГУЛАГ был не только инструментом наказания за уголовные преступления и массового террора в отношении подлинных и мнимых противников режима, но и существенным фактором экономического роста СССР. Только в пору его расцвета — в 1929–1959 гг. — через тысячи лагерей прошли около 18 миллионов заключенных. В собранных автором письменных и устных мемуарах погибших и выживших жертв концлагерей, в документах архивов — уникальные свидетельства о быте и нравах зоны: лагерная иерархия, национальные и социальные особенности взаимоотношений заключенных; кошмар рабского труда, голода и унижений; цена жизни и смерти, достоинство и низость, отчаяние и надежда, вражда и любовь…
Эта подлинная история паутины Большого террора — одна из самых трагических страниц летописи XX века, к сожалению, не ставшая, по мнению, автора, частью общественного сознания.
с гордостью говорит один.
«У меня прораб по земляным работам — кассир-растратчик», —
заявляет другой[284].
Смысл ясен: условия тяжелые, грубый человеческий материал нуждается в обработке, но всезнающие и всепобеждающие чекисты несмотря ни на что добиваются успеха и превращают преступников в советских людей. Так реальные факты — примитивность техники, нехватка специалистов — использовались для того, чтобы сделать более правдоподобной фантастическую в иных отношениях картину лагерной жизни.
Немалую часть книги составляют греющие душу квазирелигиозные истории о «перековке» работающих на канале заключенных.
Многие из «заново родившихся» уголовники, но не все. В отличие от очерка Горького о Соловках, где о политзаключенных сказано вскользь и их количество преуменьшено, «Беломорско-Балтийский канал» представляет читателю некоторых ярких «новообращенных» из числа политических. Инженер Маслов, бывший «вредитель»,
«пытался иронией прикрыть те серьезные и глубокие процессы перестройки сознания, которые непрерывно шли в нем по мере его врастания в работу».
Инженер Зубрик, «вредитель» из пролетарской среды,
«честно заработал свое право снова вернуться в лоно родного класса»[285].
Эта книга не была единственным литературным произведением эпохи, где восхвалялась преображающая сила лагерей. Другой яркий пример — «Аристократы», комедия Николая Погодина о Беломорканале. Не в последнюю очередь пьеса интересна тем, что она разрабатывает раннебольшевистскую тему «привлекательности» воров. Впервые исполненная в декабре 1934-го пьеса Погодина, по которой позднее был поставлен фильм «Заключенные», игнорирует «кулаков» и политзаключенных, составлявших большинство строителей канала, и изображает веселые шутки и выходки лагерных уголовников (тех самых «аристократов»), слегка подкрашивая их язык блатным жаргоном. Правда, звучат в пьесе и одна-две зловещие ноты. Один уголовник «выигрывает» в карты девушку: проигравший должен предоставить ее в его распоряжение. В пьесе девушка спасается — в жизни ей, скорее всего, повезло бы меньше.
В финале, однако, все раскаиваются в былых преступлениях, видят свет и с энтузиазмом приступают к труду. Звучит песня:
Я был жестокий бандит, конечно, да…
Грабил народ, не любил труда,
Как черная ночь, моя жизнь была
И меня, конечно, на канал привела.
Все, что было, стало как страшный сон.
Я вроде как будто снова рожден.
Трудиться, и жить, и петь хочу,
От радости слезы текут, и, конечно, я молчу[286].
В ту эпоху все это приветствовалось как новый, прогрессивный театр. Польский социалист Ежи Гликсман, видевший «Аристократов» в Москве в 1935-м, описал свое впечатление:
«Сцена располагалась не на обычном месте, а в центре зала, зрители сидели вокруг нее. Целью режиссера было приблизить их к действию пьесы, ликвидировать разрыв между зрителями и актерами. Никакого занавеса, декорации чрезвычайно простые — почти как в английском театре елизаветинских времен… Завораживала сама тема — жизнь в трудовом лагере»[287].
Во внелагерном мире такая литература играла двоякую роль. Во-первых, она помогала оправдывать быстрый рост лагерей в глазах зарубежных скептиков, чему власти по-прежнему уделяли внимание. Во-вторых, она должна была успокаивать советских граждан, встревоженных жестокими методами индустриализации и коллективизации, обещая им счастливую развязку: даже жертвам сталинского переустройства общества дается шанс обрести в трудовых лагерях новую жизнь.
Пропаганда была действенной. Посмотрев «Аристократов», Гликсман выразил желание увидеть настоящий лагерь. К его удивлению, оно вскоре было исполнено: его привезли в подмосковное Болшево в показательную «трудовую коммуну» для несовершеннолетних правонарушителей. Позднее он описывал
«симпатичные белые кровати и постельные принадлежности, отличные прачечные. Все сияло чистотой».
Он встретился с группой юных заключенных, которые рассказали ему примерно такие же вдохновляющие личные истории, как те, что можно было прочесть у Погодина и Горького. Он познакомился с бывшим вором, который теперь учился на инженера, с бывшим хулиганом, осознавшим свои ошибки и теперь заведовавшим складом коммуны.
«Каким прекрасным может быть мир!» —
шепнул Гликсману на ухо кинорежиссер из Франции. К несчастью для Гликсмана, через пять лет он очутился на полу битком набитого «телячьего вагона», направлявшегося в лагерь, совершенно не похожий на увиденное им в Болшево, в обществе арестантов, не имевших ничего общего с персонажами пьесы Погодина[288].
Пропаганда подобного рода играла свою роль и внутри лагерей. Лагерные издания и стенгазеты содержали приблизительно такие же истории и стихи, как те, которыми потчевали внешний мир, но акценты были расставлены несколько иначе. Типичной выглядит газета «Перековка», которую делали заключенные на строительстве канала Москва — Волга (проект был затеян на гребне «успеха» Беломорканала). Наполненная похвалами в адрес ударников и описаниями их привилегий (говорится, например, что еду им приносят на стол — в очереди стоять не надо), «Перековка» уделяет меньше внимания гимнам духовному перерождению, чем «Беломорско-Балтийский канал», и делает больший упор на конкретных преимуществах, которые дает заключенному ударный труд.
Не так много здесь и претензий на высшую справедливость советской системы. В номере за 18 января 1933-го приводится речь Лазаря Когана, начальника строительства канала Москва — Волга:
«Мы не можем входить в обсуждение вопроса — правильно или неправильно ты заключен в лагерь. Это не наше дело. В крайнем случае, это дело прокуратуры или высших контрольных инстанций… Ты должен своим трудом создать государству нужные ценности, а мы обязаны сделать из тебя ценного для государства человека»[289].
Также обращает на себя внимание отдел жалоб «Перековки», полный весьма откровенных публикаций. Заключенные жаловались, с одной стороны, на «склоки, ругань, потасовки» в женских бараках, с другой — на пение там религиозных гимнов, на невыполнимые нормы, на нехватку обуви и чистого белья, на дурное обращение с лошадьми, на базар в Дмитрове поблизости от лагеря, на неправильное использование техники. Столь открытого обсуждения лагерных проблем позднее уже не было — оно стало достоянием секретных отчетов, направлявшихся сотрудниками органов прокурорского надзора своему московскому начальству. Однако в начале 30-х годов такая «гласность» была обычным явлением как в лагерях, так и вне их. Она составляла неотъемлемую часть взвинченного, неистового стремления улучшить условия, усовершенствовать методы труда и, самое главное, выполнить лихорадочно нагнетаемые требования сталинского руководства[290].
Идя сегодня по берегу Беломорканала, очень трудно вообразить почти истерическую атмосферу тех лет. Я была там в сонный августовский день 1999 года в обществе нескольких местных историков. Мы ненадолго остановились у стелы в Повенце, на которой выбита надпись:
«Безвинно погибшим на строительстве Беломорканала в 1931–1933 гг.»
Один из моих спутников по традиции выкурил папиросу «Беломор». Он объяснил мне, что этот сорт, в свое время самый популярный в СССР, был на протяжении десятилетий единственным памятником строителям канала.
Невдалеке — старый «трудпоселок», где раньше жили ссыльные, ныне практически пустой. Большие, в свое время добротные карельские избы стоят заколоченные. Некоторые покосились. Здешний житель, уроженец Белоруссии, — он даже говорит немного по-польски — сказал нам, что несколько лет назад хотел купить один из домов, но местные власти не разрешили. «Теперь все разваливается», — сказал он. В огороде за домом у него растут тыквы, огурцы, ягодные кусты. Он угостил нас домашней настойкой. С огородом и пенсией в 550 рублей (в то время примерно 22 доллара) в месяц жить, сказал он, можно. На канале, конечно, работы нет.
И неудивительно: в самом канале купались и швырялись камешками мальчишки. По мелкой темной воде брели коровы, сквозь трещины в бетоне проросла трава. У одного из шлюзов в небольшом строении с розовыми занавесками на окнах и колоннами в настоящем сталинском стиле одинокая женщина, следящая за уровнем воды в канале, сказала нам, что в день проходит самое большее семь судов, а часто всего три-четыре. Это чуть больше, чем увидел в 1966 году Солженицын, когда он провел на берегу канала восемь часов, за которые мимо него прошли две самоходные баржи с бревнами, годными только на дрова. Тогда, как и сейчас, большую часть грузов перевозили по железной дороге; к тому же, как сказал ему начальник охраны шлюза, канал такой мелкий, что
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Паутина Большого террора"
Книги похожие на "Паутина Большого террора" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Энн Эпплбаум - Паутина Большого террора"
Отзывы читателей о книге "Паутина Большого террора", комментарии и мнения людей о произведении.