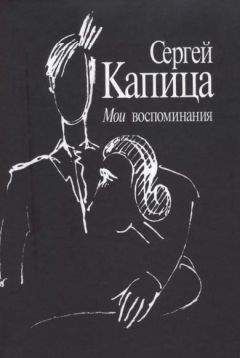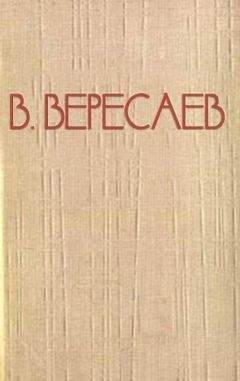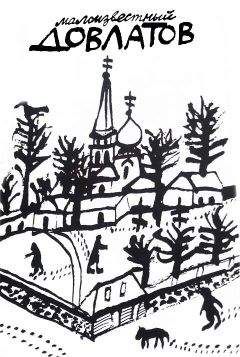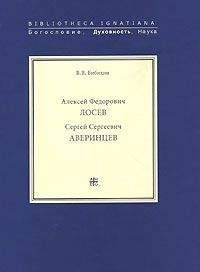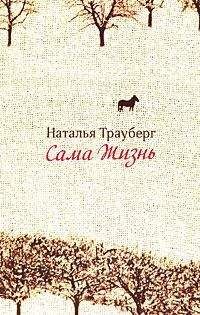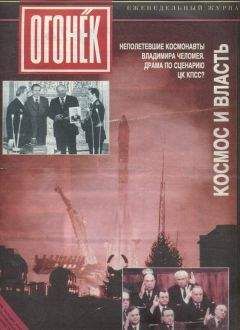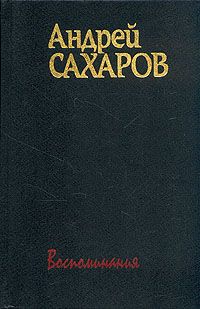Сергей Аверинцев - Воспоминания об Аверинцеве. Сборник.
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Воспоминания об Аверинцеве. Сборник."
Описание и краткое содержание "Воспоминания об Аверинцеве. Сборник." читать бесплатно онлайн.
Сергей Сергейевич Аверинцев (10 декабря1937, Москва — 21 февраля2004, Вена) — русский филолог, специалист по позднеантичной и раннехристианской эпохам, поэзии Серебряного века. Переводчик, лектор, член Союза писателей СССР (1985), русского ПЕН-центра (1995), председатель Российского библейского общества (с 1990), международного Мандельштамовского общества (с 1991), президент Ассоциации культурологов.
В одной из лекций Аверинцев говорил о Ареопагите "это не философия, не литература, а шире - культурное событие!не совсем философия, не совсем поэзия, а и то и другое". Именно таким событием и был сам Сергей Сергейевич Аверинцев!
Сборник воспоминаний об Аверинцеве С.С.
1 Интервью с вдовой академика Сергея Сергеевича Аверинцева- Н.П.Аверинцевой
2 В. Бибихин Записи о встречах
3 Воспоминания М.Л.Гаспарова о C.C.Аверинцеве (из книги "Записи и выписки")
4 Владимир Бондаренко. СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ ПОЧВЕННИК АВЕРИНЦЕВ
5 Эдгар Лейтан С. С. АВЕРИНЦЕВ В ВЕНЕ
6 В. МАХЛИН Возраст речи. Подступы к явлению Аверинцева
Но так — “в принципе”; исторически принцип был “подморожен”, если не уничтожен, в советский век вместе с реальной преемственностью исторической речи и памяти.
Мы едва ли сумеем сориентироваться в сегодняшнем умонастроении беспредела, фрагментарную феноменологию которого в России и на Западе Аверинцев наметил в “Знамениях времени”(второй рабочий заголовок или подзаголовок книги — “Опыт христианской ориентации”), если не узнаем и не признаем в сегодняшних отморозках и самозванцах от филологии, идеологии и теории — оборотней сознаний и сюжетов, “заверченных давно”. Задолго до того, как литературоведение, в известном смысле, осталось без своего предмета — литературы, историческая наука — без истории, общественное сознание — без общества и сознания, а сознание — без внутреннего оправдания и без “второго сознания”; задолго до того, как началась постмодерно-постсоветская робинзонада и отсебятина, а гуманитария без человека (подмеченная С. С. у коллег-современников в рецензии 1976 года на сборник работ Бахтина) еще не стала чем-то совершенно естественным и в то же время — сугубо научным; задолго до всех духовных и не очень духовных сюрпризов наших дней и опоздавшего почти на полвека жаргонного трепа о “дискурсе” произошла почти необратимая дискурсивная катастрофа населения, от зеков до филологов. Имеется в виду утрата живого языка разговора — по ту сторону еще памятных многим продолжительных аплодисментов, переходящих в овацию; по ту сторону теоретизированного, идеализированного, поэтизированного “Логоса”; утрата общественно-междучеловечески-исторически-прозаических logoi (буквально “речей”), то есть конкретного логоса-дискурса. (О. Мандельштам — не говоря уж о Бахтине или Выготском — задолго до М. Фуко писал о “речевом сознании”, противопоставляя его “всепожирающему и голодному до слов мышлению”.)
Не изолированный, как бы утопический субъект, часто по недоразумению или жаргонно называемый “экзистенциальным”, нообщее, “общное” у меня с другими людьми речевое сознание и речевое мышление реально соединяют мое прошлое и настоящее с будущим; в противном случае происходит утеря движущей памяти — памяти будущего. Аверинцев решился заговорить об этом с последней, мандельштамовской прямотой, но с аверинцевской не оскорбительностью в выступлениях и интервью конца 1980-х начала 1990-х годов.
В то уже сильно отошедшее в прошлое время — и не поверится самим — не худшее, а лучшее было гласностью. Не потому только, что вдруг стало “можно” (как и наступающая сейчас новая “глухота паучья” наступает не потому просто, что стало опять “нельзя”). Общная надежда на все-таки лучшее будущее давала тогда решимость и право высказать городу и миру, соотечественникам и соотечественницам, братьям и сестрам (как однажды рискнул написать и напечатать С. С.) еще общей родины ужасные, почти безнадежные истины о прошлом этой самой родины. Для не совсем обычного филолога, каким был Аверинцев, то есть для такого христианина, который пытается найти себя в догмате таким образом, чтобы всякий раз сызнова сопрягать догмат и веру с миром жизни, с конкретным предметом исследования, наконец, с трезвым и здравым сознанием собственной исторической ситуации, — важнейшей из таких почти безнадежных истин был семантический кризис самого языка в период полного сталинского торжества “новой богословской школы”:
…старые слова, забытые всеми, кроме допотопных интеллигентов (как раз и окружавших мое отрочество), не подходили к новой действительности, для которой в наличии был только набор официальных обозначений, альтернативы которым можно было создавать только общей языковой работой, но таковая была абсолютно невозможна. Единственной альтернативой официальному языку оставалась лагерная “феня”, или можно было в одиночестве выдумать собственный язык для индивидуального употребления — занятие, привычка к которому ощутима у Солженицына, и у Л. Гумилева, и особенно у Дм. Панина (послужившего моделью для солженицынского Сологдина).
Как выражался С. С. в последние годы: Мандельштам напророчил. Ведь это у Мандельштама сказано: “Отлучение от языка равносильно для нас отлучению от истории”. И все же снова переспросим: не странно ли, что в изображенном Аверинцевым дискурсивном онемении двух поколений между официальным языком, с одной стороны, и лагерной “феней”, с другой, — едва ли не пустота, “котлован”?
Разумеется, тот факт, что на обочине котлована ничего особенно не живет и не растет, кроме исключений из правила, подтверждающих правило, — сегодня куда понятнее, чем в 1991 году, когда С. С. написал о семантическом кризисе великого и могучего языка. Логика дискурсивной совместности социально-исторического опыта мира жизни — логика речи, которую упоминавшийся Гадамер называет “диалектикой обоюдности”, а Бахтин — “идеологической средой сознания” или “диалогизующим фоном” разумения, — такова, что сознательные отклонения от официального дискурса невольно заимствуют у отрицаемого тоталитарного речевого сознания его же установку, но только, как сказано у Достоевского, — с “другой рожею”. (В “Знамениях времени”, для того чтобы проиллюстрировать, видимо, беспокоившую его мысль о том, что диссидентское сознание не всегда, но часто является бессознательным двойником и изнанкой отрицаемого этим сознанием тоталитаризма, С. С. приводит такой шедевр адской издевки: Л. Н. Гумилев в приватной обстановке отвечал на любую критику предупреждением, что не согласный с ним разоблачает себя как агент КГБ, а возможно, и ЦРУ.)
Но я все-таки переспросил не об этом, а о другом. Неужели в самом деле все сгорели карусели и, кроме текстов (официальных и неофициальных), остался только блатной язык? И куда делся в аверинцевской схеме самый главный нюанс, который так легко вообще упустить из виду в его же высказывании, — новая действительность, не совпадающая ни с официальной, ни с блатной, ни с более условной — сиречь “литературной” — речью? Неужели это так безоговорочно-серьезно, серьезно, как движение бедного маленького Ганно Будденброка, подводящего черту под своим родословием: больше ничего не будет!?
ДарОбострим вопрос, вспомнив то, что Мандельштам — поэт и критик, особо значимый для совершеннолетия Аверинцева, — писал о судьбах русского речевого сознания и речевого мышления. Писал в решающий для современного содружества или, точнее, “раздружества” гуманитарных наук период “столетнего десятилетия”, по выражению Е. Замятина, 1914—1923 годов. Ведь это тогда, как сказано в прологе “Волшебной горы” Томаса Манна, “началось столь многое, что потом оно уже и не переставало начинаться”. Началась современная филология, современное литературоведение, современная лингвистика, современная философия, теология, психология, как и современный исторический опыт мира жизни.
Как известно, автор статей “Петр Чаадаев” (1915) и “О природе слова” (1922) утверждал, что Чаадаев, вынесший своей стране и народу исторический приговор, тем не менее “упустил одно обстоятельство, — именно: язык”.
Не тексты сами по себе — так можно пересказать-передать мандельштамовские мысли сегодня своими словами, — но поразительно живой и свободный, в условиях несвободы и почти отсутствия исторической жизни, язык есть “дар русской земли”, тождественный ее “свободе”. В языке и почти только в нем еще удерживается непрерывная память будущего как историческая перспектива, если не обетование, национальной общности. И это — в условиях перманентного разрыва преемственности и утраты общего языка в обществе и научном сообществе.
Но ведь такая свобода (плохо совместимая с нашими представлениями о “свободном Западе” и уж тем более неуместная с точки зрения “political correctness”) реально является не исторически созревшей институциализированной культурой, о которой всегда мечтали у нас, с оглядкой на Запад, лучшие русские мыслители-интеллигенты от Чаадаева до Аверинцева. Нет, “дар русской земли”, если его не эстетизировать, — иного рода. Что же это такое? — Этот дар, — отвечает нам Мандельштам из “столетнего десятилетия”, — оказываетсястихией — “грозной и безбрежной стихией русской речи, невмещавшейсяни в какие государственные и церковные формы”.
Почему и не адекватная рациональному Западу (Аквинату) рационалистическая российская оппозиция этой стихии — как “западническая”, так и “почвенническая”, как “сверху”, так и “снизу”, — не могла не тяготеть у нас либо к государственным, либо к церковным формам, либо к достаточно одиозному, “византийскому”, синтезу этих форм. (Бердяев в эмиграции с деланной невинностью несовершеннолетнего взрослого, как бы забывшего собственную марксистскую молодость, риторически вопрошал: как это “русские”, анархисты в душе, могли прельститься бездушными, рационалистическими схемами Гегеля и Маркса, не адекватными даже Гегелю и Марксу?.. — Так ведь как раз поэтому!..)
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Воспоминания об Аверинцеве. Сборник."
Книги похожие на "Воспоминания об Аверинцеве. Сборник." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Сергей Аверинцев - Воспоминания об Аверинцеве. Сборник."
Отзывы читателей о книге "Воспоминания об Аверинцеве. Сборник.", комментарии и мнения людей о произведении.