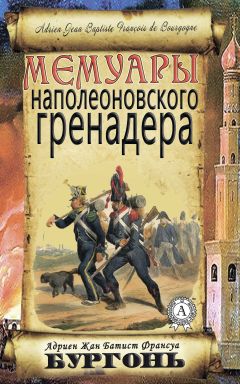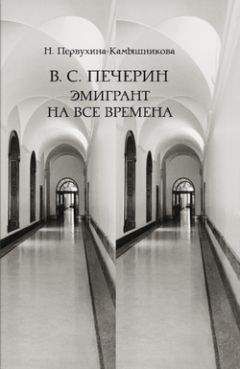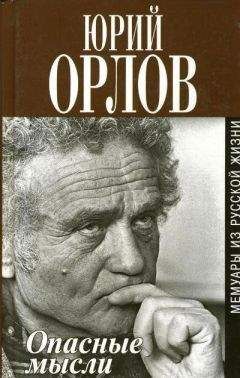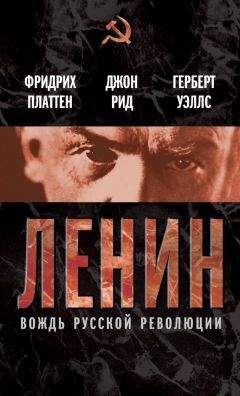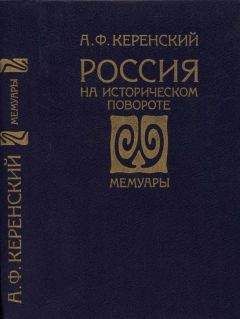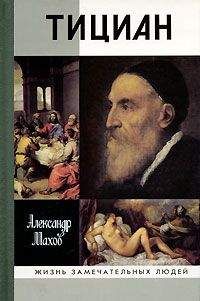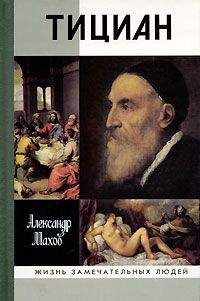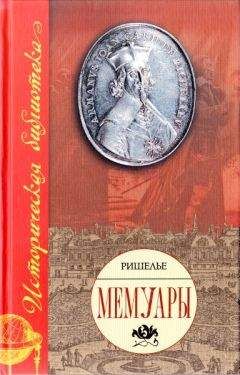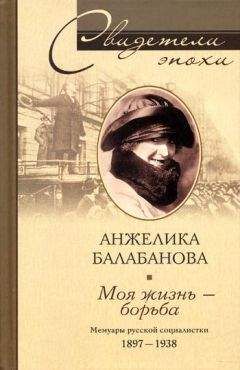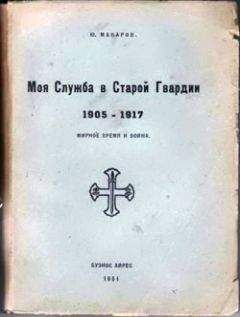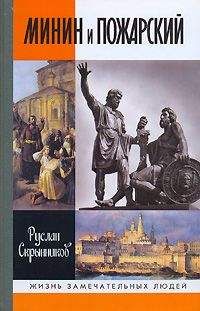Федор Степун - Бывшее и несбывшееся

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Бывшее и несбывшееся"
Описание и краткое содержание "Бывшее и несбывшееся" читать бесплатно онлайн.
Мемуары Федора Степуна (1884-1965) принадлежат к вершинным образцам жанра в русской литературе XX века. Человек необычайно разнообразной одаренности и бурной судьбы – философ, критик, журналист, театральный режиссер, романист, русский офицер периода Первой Мировой войны, политический деятель, член Временного правительства, наконец, эмигрант и прославленный профессор, возглавлявший много лет кафедру истории русской культуры Мюнхенского университета, – Степун запечатлел в своих мемуарах широкую панораму русского духовного Ренессанса начала XX века.
Да, рябина… Возвращаясь сегодня утром к себе домой рябиновой аллеей (к счастью, есть и в Дрездене такая близкая душе, горькая своей осенней красотою аллея), я с нежностью вспомнил дореволюционную Россию: до чего же она была богата по особому заказу скроенными и сшитыми людьми. Что ни человек – то модель. Ни намека на стандартизованного человека западноевропейской цивилизации. И это в стране монархического деспотизма, подавлявшего свободу личности и сотнями бросавшего молодежь в тюрьмы и ссылки.
Какая в этом отношении громадная разница между царизмом и большевизмом, этой первою в новейшей истории фабрикой единообразных человеков. Очевидно государственный деспотизм не так страшен своими политическими запретами, как своими культурно-педагогическими заданиями, своими замыслами о новом человеке и о новом человечестве. При всем своем деспотизме, царская Россия духовно никого не воспитывала и в духовно-культурной сфере никому ничего не приказывала. Эта роль была ей и не под силу. Отдельные анекдоты не в счет. В качестве такого, ныне уже милого анекдота, вспоминается мне лекция Андрея Белого об Египте. Как только Белый, говоря о пирамидах и фараонах, назвал Рамзеса Второго, присутствовавший представитель власти встал и внушительно попросил имени фараона не называть. Фараон все-таки царь, это он, вероятно, помнил из курса Закона
Божия, а Рамзес Второй, быть может, только псевдоним Николая Второго: кто его знает – лектора говорят темно и увертливо.
Самой яркой фигурою в редакции «Мусагета» был, бесспорно, Андрей Белый. Особенно озлобленные недоброжелатели Бориса Николаевича часто называли его паяцем: «все?де в нем нарочито, руки попросту не подает, на кафедре дергается, как Петрушка». Простоты в Белом, правда, не было, но не было в нем и нарочитости: он был скорее юродивым, чем позером.
В описываемые годы московской жизни Белый с одинаковой страстностью бурлил и пенился на гребнях всех ее волн. Помню его не только на заседаниях Религиозно-философского или Психологического обществ, не только у Морозовой и в «Мусагете», но также на уютных вечерних беседах у Гершензона, в редакции «Скорпиона», на концертах Олениной д'Аль-гейм, в гостиной Астрова, где, сильно забирая влево, он страстно спорил с «Кадетами» и земцами, на антропософских вечерах у Харитоновой и, наконец в каком то домишке в глубоких подмосковных снегах на полулегальных собраниях толстовцев, штундистов, реформаторов православия и православных революционеров, где он все с тою же исступленностью вытанце-вывал, выкрикивал и выпевал свои идеи и видения.
Перечислять темы, на которые говорил в те годы Белый, и невозможно и ненужно. Достаточно сказать, что его сознание подслушивало и подмечало все, что творилось в те канунные годы, как в России, так и в Европе: недаром он сам себя охотно называл сейсмографом. Чего бы, однако, ни касался Белый, он по существу всегда волновался одним и тем же: всеохватывающим кризисом европейской культуры и жизни, грядущей революцией европейского сознания, «циркулирующим» по России революционным субъектом, горящими всюду лесами, расползающимися оврагами; в его сознании все мелочи и случайности жизни естест
венно и закономерно превращались в симптомы, символы и сигналы.
Талантливее всего бывал Белый в прениях. Он, конечно, не был оратором в духе Родичева или Макла-кова. Как в Думе, так и в суде он был бы невозможен: никто ничего бы не понял. Но говорил он все же изумительно. Необъятный горизонт его сознания непрерывно полыхал зарницами неожиданнейших мыслей. Своею ширококрылою ассоциацией он в вихревом полете речи молниеносно связывал во все новые парадоксы, казалось бы никак не связуемые друг с другом мысли. Чем вдохновеннее он говорил, тем чаще логика его речи форсировалась фонетикой слов: ум превращался в заумь, философская терминология – в символическую сигнализацию. Минутами прямой смысл почти совсем исчезал из его речи, но, несясь сквозь невнятицы, Белый ни на минуту не терял своего поразительного словотворческого дара.
Надо отдать справедливость Белому, в самые мертвые доклады его «слово» вносило жизнь, самые сухие понятия прорастали в его устах, подобно жезлу Ааро-нову. Одного только никогда не чувствовалось в выступлениях поэта – постоянства и библейской «тверди». Более изменчивого и неустойчивого сознания мне в жизни не встречалось. Чего только Белый за свою, слишком рано угасшую жизнь, не утверждал как истину, чему только он не изменял. В молодости он утверждал марксизм и даже ездил в Ясную Поляну защищать диалектический материализм против Толстого. От Маркса он перебросился к Канту, но его кантианство очень скоро окончилось запальчивою полемикой против неокантианцев. Вырвавшись из тисков неокантианской методологии, Белый на короткое время с головою ушел в мистику, но, испугавшись мистической распутицы, стал тут же твердить, что лишь христианское «отвердение» мистики может спасти душу от космической хляби и душевной расхлябанности: в это вре
мя он писал статьи против музыки, размагничивающей волю и убивающей героический порыв. Христианству Белый изменил однако еще быстрее, чем мистике: его религией оказалось штейнерианство, т. е. своеобразная смесь наукообразного рационализма с вольноотпущенной бесцерковной мистикой. В последнем произведении Белого, в его автобиографии, штейнерианства однако уже не чувствуется: всеми своими утверждениями Белый твердит, что его исконною и пожизненною твердью была марксистская революционность.
В идеологическом плане это утверждение – отчасти самообман, отчасти вынужденное приспособленчество; но в чисто психологическом плане последнему автопортрету Белого нельзя отказать в некоторой убедительности. Если центральным смыслом всякой революции является взрыв всех тех смыслов, которыми жила предшествовавшая ей эпоха, то Белого, жившего постоянными взрывами своих только что провозглашенных убеждений, нельзя не признать типичным духовным революционером.
Таким я его впервые ощутил в вечер чтения им в «Мусагете» первых глав «Петербурга». Читал Белый свой роман, в котором зловещим кошмаром надвигаются на Россию все существенные темы и образы будущего («период изжитого гуманизма заключен»… «наступает период здорового варварства»… «пробуждается сказание о всадниках Чингис-Хана»… «распоясывается семито-монгол»… «масса превращается в исполнительный аппарат спортсменов революции»… «великое волнение будет»… «прыжок над историей будет»…) совершенно замечательно. Магия его чтения была так сильна и принудительна, что все мы буквально вдыхали в себя те гнилостно-лихорадочные туманы Петербурга, под прикрытием которых в романе «циркулирует революционный субъект», разжигая мечты, разнося темные слухи, взводя курки и начиняя бомбы…
Сблизился я со всем мусагетским кругом прежде
всего, как редактор задуманного нами еще во Фрей-бурге философского журнала «Логос», который после многих трудов и при весьма недоброжелательном к нам отношении со стороны маститых московских философов, удалось в конце концов устроить в «революционном» «Мусагете».
Выученики немецких университетов, мы вернулись в Россию с горячей мечтою послужить делу русской философии. Понимая философию как верховную науку, в последнем счете существенно единую во всех ее эпохальных и национальных разновидностях, мы естественно должны были с самого начала попасть в оппозицию к тому доминировавшему в Москве течению мысли, которое, недолюбливая сложные отвлеченно-методологические исследования, рассматривало философию, как некое сверхнаучное, главным образом религиозное исповедничество. Правильно ощущая убыль религиозной мысли на западе, но и явно преувеличивая религиозность русской народной души, представители этого течения не могли не рассматривать наших замыслов, как попытки отравить религиозную целостность русской мысли критическим ядом западнического рационализма.
Живо помню, как вскоре после выхода в свет первого номера «Логоса», который я принял из рук Ко-жебаткина с таким же незабвенным трепетом, с каким в 16 лет услыхал первое признание в любви, а в 28 – первый раскат австрийской артиллерии, я спорил на эту тему с Н. А. Бердяевым в уютной квартире сестер Герцык, пригласивших нас к себе после какого-то доклада.
Сестры Герцык принадлежали к тем замечательным русским женщинам, для которых жить значило духовно гореть. Зная меня с фрейбургских времен, они, очевидно, хотели сблизить меня со своим старым другом. Мне было 26 лет – Николаю Александровичу 36. Он был уже известным писателем, мною была опублико
вана только еще одна статья в «Русской мысли»: «Немецкий романтизм и русское славянофильство». Силы были неравные, но спорили мы одинаково горячо: с преклонением перед истиной, но без снисхождения друг к другу, не дебатировали, а воевали. Мастер радикальных формулировок, Бердяев в тот вечер впервые вскрыл мне исходную сущность всех расхождений между «Логосом» и «Путем».
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Бывшее и несбывшееся"
Книги похожие на "Бывшее и несбывшееся" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Федор Степун - Бывшее и несбывшееся"
Отзывы читателей о книге "Бывшее и несбывшееся", комментарии и мнения людей о произведении.