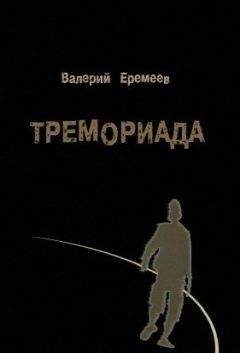Валерий Гвоздей - Секреты чеховского художественного текста
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Секреты чеховского художественного текста"
Описание и краткое содержание "Секреты чеховского художественного текста" читать бесплатно онлайн.
Однако в 1892 году такая нарочитость уже не смущает Чехова.
Вот его герой, опьяненный ожиданием любви и страстных объятий, выходит в ночной сад. Там "уж подымался туман, и около деревьев и кустов, обнимая их, бродили те самые высокие и узкие привидения, которых я видел давеча на реке. Как жаль, что я не мог с ними говорить!" [С.8; 136].
Не "высокие, узкие клочья тумана", похожие на привидения, а - "те самые высокие и узкие привидения, которых я видел давеча на реке".
Метаморфоза произошла в сознании героя, но тем не менее описываемый художественный мир принял "привидения" как нечто само собой разумеющееся, ни в чем ему не противоречащее.
И тогда аллегорическое действо, разыгранное белыми привидениями, их осведомленность о тайных законах человеческого бытия - такое же достояние этого художественного мира, претендующего на отражение мира реального, как и то, что утром, когда герой уезжал из имения Силина, "уже восходило солнце и вчерашний туман робко жался к кустам и пригоркам" [С.8; 138].
Чехов, прекрасно понимая, какие художественные возможности таит в себе многозначность слова, не зря соотнес ночное страстное опьянение героя с туманом, а его утреннее состояние - с рассеившимся туманом, который "робко жался к кустам и пригоркам". С.115
Однако рассеялось только опьянение.
Мир с его сложными связями и неподдающимися человеческому пониманию соотношениями и соответствиями не стал понятнее. Стал - страшнее.
И ночное сожаление героя о невозможности диалога с белыми туманными фигурами, чувство симпатии к ним, воспринимаются как напрасные, не у них надо искать истины, они - всего лишь туман, застилающий "отражение звезд" в речной воде...
Глубина и многомерность чеховского текста, некоторая его неопределенность, недосказанность, ускользающая от самой вдумчивой интерпретации, в значительной мере обусловлена сравнениями, а также - менее отчетливыми параллелями, сопоставлениями, не облеченными в форму привычных сравнительных конструкций, но по содержанию зачастую приближающихся к ним.
В начале 1890-х годов такие сравнения и непрямые, опосредованные подтекстом параллели в рассказах Чехова нередко создают в совокупности некий второй план, специфически взаимодействующий с сюжетно-фабульным планом произведения и обеспечивающий динамическое напряжение смыслового поля.
Любопытно, что даже не столь развернутые и не столь значимые для авторского художественного замысла, "проходные" сравнения этого периода приобретают многомерность, глубину и неоднозначность.
Вот пример из "Рассказа неизвестного человека" (1893): "В лакейском фраке я чувствовал себя, как в латах" [С.8; 144].
Вырванное из контекста, это сравнение может навести на мысль, что герой в одежде лакея чувствовал себя защищенным, что вполне увязывается с его тайной миссией в доме Орлова, ради которой он и поступил в лакеи.
Но контекст меняет смысл сравнения:
"В необычной обстановке, да еще при моей непривычке к ты и к постоянному лганью (говорить , когда он дома), мне в первую неделю жилось у Орлова не легко. В лакейском фраке я чувствовал себя, как в латах. Но потом привык" [С.8; 144].
Контекст наполняет данное сравнение принципиально иным содержанием, как раз из контекста и вытекающим: герой чувствовал себя в лакейском фраке столь же дискомфортно, как чувствовал бы себя современный человек, которого вдруг заставили носить вместо обычного костюма - неуклюжие, сковывающие движения рыцарские латы.
В эти годы и сравнения обращенной формы вписываются в контекст. Пример из рассказа "Супруга" (1895): "Он помнил, как у отца в деревне, бывало, со двора в дом нечаянно влетала птица и начинала неистово биться о стекла и опрокидывать вещи, так и эта женщина, из совершенно чуждой ему среды, влетела в его жизнь и произвела в ней настоящий разгром. Лучшие годы жизни протекли, как в аду, надежды на счастье разбиты и осмеяны, здоровья нет (...)" [С.9; 95].
Как видим, и сравнение, и дальнейшая часть текста проникнуты одной интонацией, одной логикой. Поэтому ни интонационного, ни логического разрыва здесь нет. Более того: слова "лучшие годы" и т. д. могли бы идти после двоеточия, поскольку поясняют сказанное выше. Не ощущается разрыва и там, где сравнение вводится в текст. Достигается это тем, что предшествующая фраза ноС.116
сит обобщающий характер и завершается многоточием, логически и интонационно оправданным. Возникает естественная мини-пауза, за которой следует развернутое сравнение. И эта мини-пауза, порожденная предшествующей фразой, поглощает, маскирует ослабленный логический переход от повествовательной части текста к сравнению, которое имеет обобщающий смысл, характеризует описываемую ситуацию в целом.
Данное сравнение включено в единый информационный поток, который, собственно, и обеспечивает единство всего фрагмента. Интонация как бы цементирует все структурные части фрагмента, придает особую логику переходам. В данном контексте это вполне оправданно и подчинено одной задаче: раскрытию эмоционального состояния героя, оказавшегося в ситуации переоценки всей своей жизни.
Похожим образом вводится в текст обращенное сравнение в рассказе "Дом с мезонином" (1896). Однако художественный эффект создается уже иной.
Художник говорит о Лиде:
"Я был ей несимпатичен. Она не любила меня за то, что я пейзажист и в своих картинах не изображаю народных нужд и что я, как ей казалось, был равнодушен к тому, во что она так крепко верила. Помнится, когда я ехал по берегу Байкала, мне встретилась девушка бурятка, в рубахе и в штанах из синей дабы, верхом на лошади; я спросил у нее, не продаст ли она мне свою трубку, и, пока мы говорили, она с презрением смотрела на мое европейское лицо и на мою шляпу, и в одну минуту ей надоело говорить со мной, она гикнула и поскакала прочь. И Лида точно так же презирала во мне чужого. Внешним образом она никак не выражала своего нерасположения ко мне, но я чувствовал его (...)" [С.9; 178].
Нетрудно заметить, что сравнительная конструкция может быть изъята из текста и при этом не произойдет ни логического, ни интонационного сбоя. Не исключено, что сравнительная конструкция была внесена в текст в последнюю очередь.
Развернутый рассказ о встрече с девушкой буряткой переносит читателя в другое время, и в другое пространство, далеко от места действия. Он очень обстоятелен, в нем есть своя интрига. И он значительно "перевешивает" вторую часть сравнения: "И Лида точно так же презирала во мне чужого".
У данного сравнения есть все предпосылки к тому, чтобы стать самодостаточной, замкнутой в себе микроструктурой.
И все же этого не происходит.
Данную конструкцию удерживают от "свертывания" интонационные и логические связи в рамках контекста, а также, что важнее, - связь с подтекстом, раскрывающим суть характера Лиды Волчаниновой, с ее предвзятостью и узостью мышления.
Нелестное для Лиды сравнение, казалось бы, из далекой среды и сферы, на самом деле слишком точно отражает специфику ситуации и даже становится эмоциональным, логическим и интонационным центром приведенного фрагмента.
Интересно, что такое же центральное место занимает сравнение в портрете Модеста Алексеича из рассказа "Анна на шее" (1895): "Это был чиновник средС.117
него роста, довольно полный, пухлый, очень сытый, с длинными бакенами и без усов, и его бритый, круглый, резко очерченный подбородок походил на пятку. Самое характерное в его лице было отсутствие усов, это свежевыбритое, голое место, которое постепенно переходило в жирные, дрожащие, как желе, щеки" [С.9; 162].
Повествователь словно стремится ослабить "давление" пяткообразного подбородка и уверяет, что "самое характерное в его лице было отсутствие усов" (гоголевский минус-прием). Однако портрет сопротивляется такой организации. И целостность впечатления держится на неожиданном и запоминающемся сравнении: "подбородок походил на пятку".
Пяткообразный подбородок "выпирает" из портрета, господствует над ним и воспринимается как важная, концентрирующая в себе какой-то глубокий смысл, деталь.
И видимо - является такой деталью, связанной с подтекстом, "сигнализирует", опять-таки с пугающей прозрачностью, о готовности мужа растоптать все надежды Ани.
Под этим знаком, "под пятой" мужа проходит большая часть описанных событий, до тех пор, пока Аня не начинает пользоваться успехом у влиятельных особ.
И тогда, пожалуй, срабатывает авторское предуведомление: "Самое характерное в его лице было отсутствие усов, это свежевыбритое голое место, которое переходило в жирные, дрожащие, как желе, щеки".
Отсутствие усов, щеки "как желе" - эти немужественные детали соответствуют "заискивающему, сладкому, холопски-почтительному выражению" на лице Модеста Алексеича, которое у него появляется "в присутствии сильных и знатных" [С.9; 172]. Эти детали "сигнализируют" о его мужской, чиновничьей капитуляции и перед влиятельными ухажерами своей жены, и перед ней самой, способствующей его служебному росту.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Секреты чеховского художественного текста"
Книги похожие на "Секреты чеховского художественного текста" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Валерий Гвоздей - Секреты чеховского художественного текста"
Отзывы читателей о книге "Секреты чеховского художественного текста", комментарии и мнения людей о произведении.