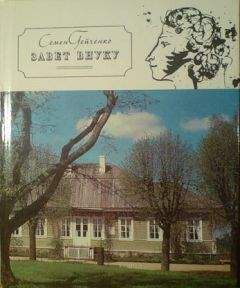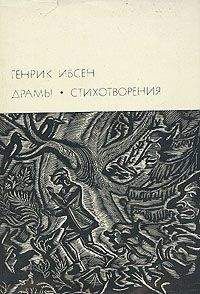Дмитрий Благой - Творческий путь Пушкина

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Творческий путь Пушкина"
Описание и краткое содержание "Творческий путь Пушкина" читать бесплатно онлайн.
Как ни велика пушкиниана, но до сих пор у нас нет законченного монографического труда, освещающего творческий путь Пушкина на всем его протяжении.
Один из крупнейших наших пушкинистов член-корреспондент АН СССР Д. Д. Благой большую часть своей жизни посвятил разработке этой темы. Его фундаментальное исследование «Творческий путь Пушкина (1813–1826)», вышедшее в свет в 1950 году, заслуженно получило высокую оценку критики и было удостоено Государственной премии.
Настоящий труд, продолжающий сделанное и вместе с тем имеющий вполне самостоятельное значение, охватывает 1826–1830 годы в творчестве Пушкина, годы создания замечательных лирических шедевров, «Арапа Петра Великого», поэм «Полтава» и «Тазит», «Сказки о попе и о работнике его Балде», маленьких трагедий. Обстоятельно анализируя все эти произведения, автор щедро делится богатством своих наблюдений, часто по-новому освещая то или иное создание Пушкина.
Книга Д. Д. Благого заполняет существенный пробел в нашем литературоведении. Яркое и живое изложение делает ее доступной самым широким кругам читателей.
Именно так действовала Екатерина II, любившая называть дворцовый переворот, возведший ее на престол, «революцией» и организовавшая вскоре после него на улицах столицы публичный маскарад «Торжествующая Минерва», целью которого было обличение пороков предшествовавшего царствования. С Екатерины II и утвердилась та традиция игры каждого нового монарха в либерализм, которую на первых порах повел даже Павел I — российский «Калигула», как, именем одного из самых кровавых и жестоких римских императоров, назвал его Пушкин. Особенно широко и многообещающе проявилось это в первый период царствования Александра I — по известным пушкинским словам, «дней александровых прекрасное начало». Однако затем «державные бразды» неизменно затягивались с прежней и даже еще большей силой.
Восшествие на престол Николая I обошлось без убийства предшественника, но, как многим казалось, в обход законного наследника, Константина. Главное же, что на пути его к царскому трону стало восстание 14 декабря, которое являлось уже не попыткой очередного дворцового переворота, хотя некоторыми своими внешними чертами и напоминало его, а первой в России действительно (а не в екатерининском смысле) революционной акцией, направленной против основных политических устоев самодержавной Российской империи. Утверждение самодержавия в качестве незыблемого государственного принципа и поставил во главу угла своей политики новый царь, объявив в высочайшем манифесте о «печальном происшествии» 14 декабря всякую оппозицию этому принципу «заразой», «извне к нам нанесенной», от которой необходимо полностью «очистить святую Русь». А из показаний самих декабристов Николай знал, что эта «зараза» в умах распространилась весьма широко. «…Едва ли не треть русского дворянства мыслила почти подобно нам», — показывал писатель-декабрист А. А. Бестужев; «…из большого числа моих знакомых, не принадлежащих никаким тайным обществам, очень немногие были противного со мной мнения. Смело говорю, что из тысячи молодых людей не найдется ста человек, которые бы не пылали страстью к свободе», — писал допрашивавшему его генералу Левашову Каховский.[17] И Николай сразу же стал накрепко затягивать «державные бразды». Проявлением этого был и жесточайший приговор Верховного суда декабристам, и введение нового цензурного устава, который за его суровость современники прозвали «чугунным», и создание всеобъемлющей системы политического надзора и сыска — образование так называемого III отделения собственной его императорского величества канцелярии, во главе которой был поставлен один из наиболее близких новому царю людей, генерал Бенкендорф, принимавший деятельное участие в подавлении восстания и назначенный шефом жандармов.
В то же время Николай понимал, что одними репрессивными мерами обойтись нельзя. И, следуя традиционной практике своих предшественников, он предпринял ряд шагов, имевших целью расположить к себе общественное мнение. Им был отстранен от дел всесильный при Александре I и всем ненавистный Аракчеев («Всей России притеснитель… А царю он друг и брат», — писал о нем в одной из эпиграмм незадолго до своей ссылки Пушкин, II, 126). После создания Священного союза Александр I впал в религиозно-мракобесные настроения, окружая себя мистиками (баронесса Крюднер) и изуверами (пресловутый архимандрит Фотий). «Мистики придворное кривлянье», как саркастически писал Пушкин в одном из стихотворений той поры, стало модным в высших сферах — среди «Лаис благочестивых» и «святых невежд» (II, 114, 115). Это сопровождалось ожесточенным гонением на просвещение, науку. Особенно старался здесь попечитель Казанского учебного округа Магницкий, бывший в первый, «либеральный» период царствования Александра помощником Сперанского, а после его опалы резко изменивший позицию, ставший, по слову Пушкина, одним из «апостолов Крюднерши» (II, 915), разгромивший за «безбожное» направление Казанский университет и даже предлагавший торжественно разрушить самое его здание. В таком же духе действовал в отношении Петербургского университета другой из «мракобеснующихся»,[18] попечитель Петербургского округа Рунич, в частности учинивший жестокое преследование лицейских профессоров Куницына, особенно ценимого Пушкиным, и Галича. Имя Магницкого Пушкин иронически упоминал в своем «Втором послании к цензору» (1824); в черновых вариантах к нему фигурировало и имя Рунича. Весьма трезво настроенный и отнюдь не склонный к мистицизму Николай отставил и того и другого; к тому же, поскольку оба мракобеса оказались растратчиками крупных казенных сумм, Магницкого отдал под суд, а Рунича выслал из Петербурга. Отстранил он от себя и Фотия — «полуфанатика, полуплута» (как он был назван в одной из убедительно приписываемых Пушкину эпиграмм), которому усиленно покровительствовал Аракчеев и под подавляющим влиянием которого находился в свои последние годы царь Александр. Наоборот, Николай приблизил к себе опального Сперанского, которого многие декабристы считали чуть ли не своим духовным отцом и намечали в состав предполагаемого Временного правления. Пушкин рассматривал Сперанского в качестве антипода Аракчееву. «Вы и Аракчеев, — сказал он ему позднее, — вы стоите в дверях противоположных» александровского царствования, «как Гении Зла и Блага» (XII, 324). Одним из самых вопиющих пороков тогдашнего строя было крайне запущенное, хаотическое состояние действовавших законов, открывавшее широчайшие возможности для злоупотреблений всякого рода. За приведение в порядок законов брались в начале своих царствований и Екатерина II и Александр I, но из этих попыток ничего не вышло. А положение становилось все более нетерпимым. «…Более всего беззаконность судов приводила сердца наши в трепет», — заявлял в своих показаниях следственной комиссии Н. А. Бестужев.[19] Этот же мотив настойчиво звучал в показаниях и записках, адресовавшихся царю многими другими декабристами. И вот как раз на Сперанского почти сразу же и была возложена задача кодификации законов, позднее им в какой-то мере и осуществленная.
На новый путь стал на первых порах Николай и в своей внешней политике. Когда в 1821 году вспыхнуло греческое восстание против турецкого ига, вызвавшее горячее сочувствие среди всех сколько-нибудь прогрессивно настроенных кругов русского общества и с энтузиазмом встреченное Пушкиным, Александр во имя принципов Священного союза, целью которого была борьба с национально-освободительными движениями народов, отказал в поддержке восставшим. Николай активно выступил в защиту греков: 18 февраля 1826 года, по соглашению с Англией, был подписан так называемый Петербургский протокол, согласно которому Греции должна быть предоставлена широкая автономия. Вдохновитель европейской реакции, австрийский канцлер Меттерних, под все усиливавшимся влиянием которого находился Александр I, назвал подписание протокола оскорблением Священному союзу.
Наоборот, «рыцарская» поза, принятая на себя Николаем в отношении греческого вопроса, в особенности после того, как два года спустя он объявил войну Турции, обманула многих представителей передовых кругов Западной Европы. Так, Генрих Гейне, заявляя в своих «Путевых картинах», что он в этой войне «за русских», пояснял, «что самый пылкий друг революции видит спасение мира только в победе России», и избирает своим «знаменосцем императора Николая, рыцаря Европы, защитившего греческих вдов и сирот от азиатских варваров и заслужившего в этой доблестной борьбе свои шпоры». И ненавидевший «Священный союз монархов», противопоставлявший ему «священный союз народов», революционный романтик Гейне был здесь не одинок. Об этом позднее свидетельствовал Маркс, связывая это с уже упоминавшейся мною традиционной игрой русских монархов в либерализм, обманывавшей даже наиболее выдающиеся умы Европы: «Целая толпа французских и немецких просветителей прославляли Екатерину II как знаменосца прогресса. „Благородный“ Александр I…разыгрывал в свое время роль героя либерализма во всей Европе… Николая также прославляли до 1830 г., на всех языках, в стихах и прозе, как героя-освободителя национальностей».[20] Заступничество за греков, как и все только что перечисленные мероприятия Николая, было сочувственно встречено и в широких кругах русского общества.
Той же двойственной тактики придерживался Николай и во время следствия и суда по делу декабристов. Больше того, именно тут-то такая тактика и была им выработана и усвоена. В подавлении восстания 14 декабря Николай принимал непосредственное участие. С самого начала он был на площади перед дворцом, распоряжался действиями верных ему войск, читал заполнившему Дворцовую площадь народу манифест о своем восшествии на престол и т. д. Руководящее и самое активное участие принимал он и в немедленно начавшемся следствии, лично допрашивая многих из арестованных, которых с того же дня стали, по его приказанию, доставлять во дворец. При этом он обнаружил незаурядные и следственные — умение разбираться в людях и соответствующим образом менять манеру своего обращения с ними — и, можно сказать, актерские способности, принимая на себя то одно, то другое обличье. На одних из допрашиваемых он грозно кричал, входил «в бешенство» (слова декабриста Поджио), запугивая «ужасной участью» (незадачливого «диктатора» князя Трубецкого), расстрелом «в 24 часа» (того же Поджио); приказывал заковать в кандалы так, чтобы «пошевелиться не мог» (И. Д. Якушкина). При допросе других выражал им сочувствие, сожаление, утверждал, что, как они, и сам не удовлетворен положением дел в стране, заверял, что твердо намерен вступить на путь реформ, призывал помочь ему в этом, поделиться своими мыслями и соображениями. Для этого он разрешил некоторым из декабристов, в том числе Рылееву, писать ему из крепости и распорядился немедленно доставлять ему эти письма. Мало того, узнав от Рылеева, что он отец семейства, он не только разрешил ему переписываться с женой, но и стал посылать ей от себя и императрицы крупные денежные пособия. «Милосердие государя и поступок его с тобой потрясли душу мою», — писал ей Рылеев,[21] не поняв, что все это был не более как коварный и двуличный прием. А у Николая это было в крови. Пушкин, еще в ссылке на юге, резко отзывался об «отвратительном фиглярстве» и лицемерии его бабки Екатерины II, метко окрестив ее «Тартюфом в юбке и в короне» (XI, 16, 17). В «рыцаря» любил играть и принявший на себя звание главы рыцарского Мальтийского ордена ее сын Павел I. Внука ее, Александра I, за его «двуязычие» — двуличность — Пушкин назвал «в лице и в жизни арлекином» (III, 206).
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Творческий путь Пушкина"
Книги похожие на "Творческий путь Пушкина" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Дмитрий Благой - Творческий путь Пушкина"
Отзывы читателей о книге "Творческий путь Пушкина", комментарии и мнения людей о произведении.