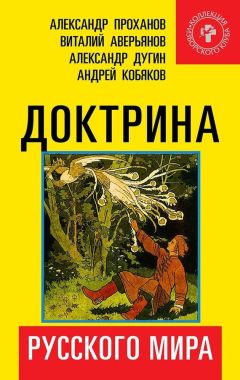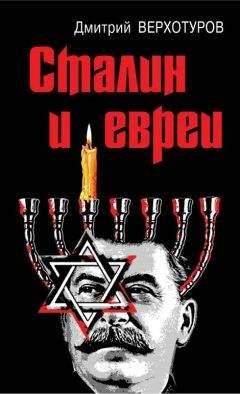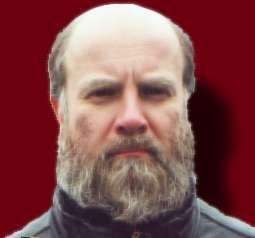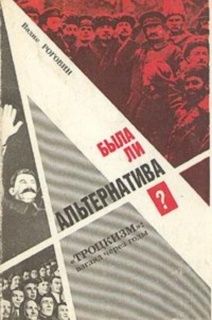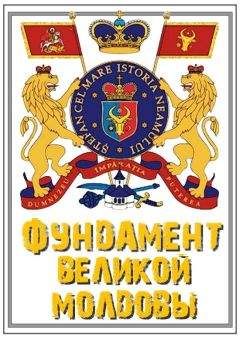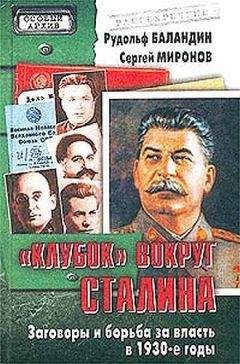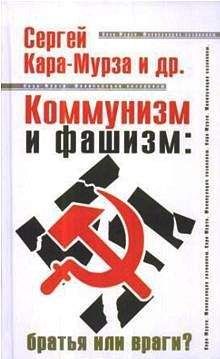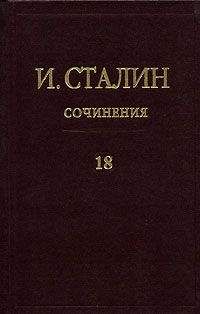Давид Бранденбергер - Д. Л. Браденбергер Национал-Большевизм. Сталинская массовая культура и формирование русского национального самосознания (1931-1956)

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Д. Л. Браденбергер Национал-Большевизм. Сталинская массовая культура и формирование русского национального самосознания (1931-1956)"
Описание и краткое содержание "Д. Л. Браденбергер Национал-Большевизм. Сталинская массовая культура и формирование русского национального самосознания (1931-1956)" читать бесплатно онлайн.
В 1930 годы Сталин и его окружение, озабоченные задачей мобилизации советского общества для грядущей войны, организовали пропагандистскую кампанию по "реабилитации" славных деятелей русского национального прошлого. В своем исследовании Д.Л.Бранденбергер прослеживает историю популистской идеологии "национал-большевизма" от 1930 годов вплоть до середины 1950 годов, обнаруживая, что идеология эта, вразрез с намерениями ее творцов, стала катализатором формирования русского национального самосознания.
Раскрывая истоки "национал-большевизма" в ближайшем окружении Сталина, автор прослеживает, каким образом новая идеология внедрялась в советское общество через систему образования и массовую культуру. Важнейшей частью исследования становится попытка реконструкции "общественного мнения" сталинской эпохи, следы которого извлекаются из писем и дневников современников, из секретных сводок НКВД. "Советский человек", советское самосознание, как правило, ассоциируется с идеологией "классового сознания". Бранденбергер доказывает, что, особенно на массовом уровне, идеология сталинизма в большей степени может быть связана с русским национализмом, нежели с пролетарским интернационализмом.
Эта книга не только помогает понять, почему такое мировоззрение пережило Сталина, но и проливает свет на причины возрождения соответствующих настроений в современной России.
Бикбулатов ратовал за более разносторонний подход к описанию культур и народов, населяющих страну, другие же с радостью восприняли полную идеологическую трансформацию. Шестаков получил огромное количество писем по поводу учебника, большинство из них — поздравительные [390]. Еще более убедительным является тот факт, что в то время как Бикбулатов критиковал Шестакова, Д. П. Петров, командир резерва личного состава сухопутных войск, донес в политическое управление Красной Армии на двух востоковедов — А. И. Артаруни и С. Я. Вельдмана. Возражая против прочтения ими истории в духе социологического материализма Покровского, Петров писал, что эти двое якобы «отрицательно относятся вообще к русскому историческому процессу, к процессу образования русского государства, вождей русского рабочего класса, ставшего Советским Союзом и родиной социализма» [391]. Петров воспринял новый официальный курс именно так, как следовало: возрождение русского национального прошлого было призвано придать легитимность и создать «генеалогию» советскому режиму – задача, с которой историография Покровского в 1920 годы не справилась.
Неоднозначность ситуации в те годы делает анализ Петрова более проницательным, чем он может показаться на первый взгляд. Некоторым быстро удалось понять, что именно стоит за происходящим возрождением русской истории и культуры, однако многие вначале воспротивились такому развитию, несмотря на руссоцентричную риторику в печати, которая стала особенно заметна с пушкинских торжеств в начале 1937 года. Вопрос некоего Гирфанда, прозвучавший на лекции в Ленинграде, является свидетельством типичной обеспокоенности в связи с возникающим курсом: «Последнее время в ряде журнальных статей о Суворове его называли народным героем. Бесспорно это — Суворов является гениальным полководцем, не знавшим поражений, но в то же время сам он был орудием реакционной политики царизма в Европе, т. е. политики жандарма Европы. Так правильно ли будет назвать его народным героем?» [392]. Поучительны и комментарии инспектора из Ленинградской области Карповой, которая возражала против нового подхода к преподаванию истории в 1937 году. Идейный коммунист, Карпова неодобрительно отнеслась к беспорядочной реабилитации дореволюционного прошлого, особенно жалуясь на популистское, героическое изображение старых правящих классов. О князе Святославе, например, она писала: «В ряде школ получается такая картина, что он был прекраснейший царь, спал вместе со своими солдатами, ел вместе с солдатами; ребята говорят о нем с таким восхищением, что это прямо возмутительно» [393].
Нежелание – или неспособность – партийного руководства прояснить определенные аспекты официальной линии означало, что подобному смятению суждено было продлиться еще некоторое время, даже после 1937 года [394]. Описанный в дневнике М. М. Пришвина спор в переполненном подмосковном поезде в начале 1938 года представляет собой одно из интереснейших свидетельств о разногласиях, которые на массовом уровне повлекло за собой введение нового курса:
«Попал в [нрзб] поезд, в курящее, смрад! Но тут в этом смраде где-то чудесный хор поет старинную русскую песню. И многих простых людей песня схватывала за сердце, кто подтягивал тихонько, кто молчал, кто храпел, и так про себя, так потихоньку, что не только не мешал, а усиливал силу песни: выходило, что народ пел. Во время перерыва, перед загадом новой, один человек, чуть-чуть навеселе, сказал:
— Хорошо поете, только старое все: кто старое помянет, тому глаз вон.
Из хора ответили:
— А кто старое забудет — тому два глаза вон.
— Нехорошо говорите, — сказал человек, — нужно бодрость вносить в новую жизнь, а вы вон что: старое воскрешаете, старое надо вон.
— А Пушкин? — раздался неведомый голос. Сторонник нового на мгновение смутился, но скоро
оправился:
— Пушкин — единичное явление. Пушкин мог тогда предвидеть наше время и тогда стоял за него. Он единственный.
— А Ломоносов?
— Тоже единственный.
— Нет, уже два, а вот Петра Первого тоже нельзя забыть — три. И пошел и пошел считать, чистая логика.
В вагоне стало неловко: всем было ясно, что и Пушкин не один, и народную песню нельзя забывать. Но один человек поднял вопрос, и раз уж он поднял, то надо как-нибудь выходить из положения: не в логике же дело. Тогда хор запел "Широка страна моя родная”. И все охотно стали подтягивать, песня всем была знакома. Однако виновник не мог слышать, он уже спал. После того опять запели новую песню о Сталине, потом военный марш, и все это было всем знакомо, и все охотно пели до самой Москвы» [395].
Воспоминание Пришвина является показательным примером народного смятения на массовом уровне. Этот эпизод также иллюстрирует готовность, с которой многие русскоговорящие члены советского общества принимали реабилитацию имен из русского национального прошлого. Любимые герои недавно изобретенного советского пантеона — Пушкин, Ломоносов и Петр — очевидно, запали в народное воображение как жившие в старое время личности, сумевшие предвидеть светлое советское будущее.
Возможно, некоторые из пришвинских попутчиков недавно посмотрели фильм «Петр Первый» или прочитали эпический роман А. Н. Толстого, по которому он был снят. В 1930 годы для многих благодаря доступной и занимательной трактовке петровской эпохи Толстого состоялось первое знакомство с богатым каноном литературных и художественных репрезентаций первого российского императора. Кинематографическое толкование образа Петра, сделанное Петровым, иногда несколько сбивало зрителей с толку, поскольку этот грандиозный, легендарный, героический нарратив пришел на смену советскому пропагандистскому нарративу, на протяжении двадцати лет представлявшему старый порядок безнравственным, эксплуататорским и загнивающим. Некоторых фильм взбудоражил настолько, что они перебивали Шестакова во время публичных лекций и спрашивали, что он о нем думает [396]. Другие, как например, Джон Скотт, американский инженер, работавший в Магнитогорске в 1930 годы, ошибочно приняли «Петра Первого» за продукт западного импорта из-за неординарности его темы [397].
Но все же многим широкий драматический подход к национальному прошлому пришелся по нраву. Во время показа фильма в Нурлатском районе близ Казани в 1938 году в импровизированные кинотеатры устремились около восьми тысяч колхозников [398]. Как докладывал полковой комиссар Отяновский, за многие месяцы он прочитал лишь одну книгу — роман Толстого. Вероятно, благодаря фильму. Интерес к деяниям Петра у рабочих Ленинградского Путиловского завода и Московского подшипникового завода им. Л. М. Кагановича можно также приписать воздействию картины В. М. Петрова [399]. Хотя, возможно, наилучшим образом о чрезвычайном воздействии «Петра Первого» на зрительскую аудиторию свидетельствует то, что респонденты Гарвардского проекта по советской общественной системе через пятнадцать лет после выхода фильма на экраны по-прежнему считали его одним из наиболее памятных за всю историю советской киноиндустрии [400].
Вслед за впечатляющим «Петром Первым» на экраны вышла еще более важная картина в патриотическом жанре — «Александр Невский» Сергея Эйзенштейна [401]. Существует мнение, что фильмы, рассказывающие о жизни простых людей, например «Цирк» или «Волга-Волга» Г. В. Александрова, в середине 1930 годов пользовались большей популярностью, нежели картины с более ярко выраженной пропагандистской позицией. Тем не менее, возвращение русского исторического героя в конце десятилетия вдохнуло новую жизнь в советское политическое кино [402]. «Александр Невский» собрал рекордное число зрителей. В. С. Иванов, директор московского кинотеатра «Художественный» говорил корреспонденту газеты: «Пожалуй, со времен "Чапаева" не было такого огромного наплыва зрителей, как в эти дни» [403]. Далеко от Москвы, в городе Шахты, корреспондент местной газеты писал, что каждый день за несколько часов до открытия кассы перед местным кинотеатром выстраиваются длинные очереди. За первую неделю проката в этом тихом районном центре картину посмотрела двадцать одна тысяча человек [404]. В Москве еще через несколько недель после премьеры фильма по-прежнему невозможно было достать билеты [405].
В конце ноября 1938 года в «Вечерней Москве» почти ежедневно появлялись статьи и заметки об «Александре Невском», в одной из них подробно рассказывалось о зрительских впечатлениях. Из красноречивых комментариев видно, что руссоцентризм становился неотъемлемой частью советского патриотизма:
«Фильм захватил меня до глубины души. Это — подлинный шедевр советского киноискусства. Незабываемы эпизоды "Ледового побоища", характеризующие патриотизм русского народа, его беззаветную храбрость и глубокую любовь к своей родине» [тов. Шляхов, воентехник второго ранга].
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Д. Л. Браденбергер Национал-Большевизм. Сталинская массовая культура и формирование русского национального самосознания (1931-1956)"
Книги похожие на "Д. Л. Браденбергер Национал-Большевизм. Сталинская массовая культура и формирование русского национального самосознания (1931-1956)" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Давид Бранденбергер - Д. Л. Браденбергер Национал-Большевизм. Сталинская массовая культура и формирование русского национального самосознания (1931-1956)"
Отзывы читателей о книге "Д. Л. Браденбергер Национал-Большевизм. Сталинская массовая культура и формирование русского национального самосознания (1931-1956)", комментарии и мнения людей о произведении.