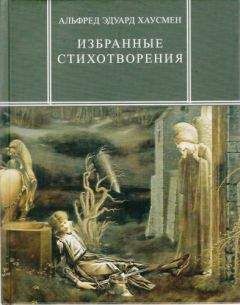Владимир Набоков - Комментарий к роману "Евгений Онегин"

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Комментарий к роману "Евгений Онегин""
Описание и краткое содержание "Комментарий к роману "Евгений Онегин"" читать бесплатно онлайн.
Это первая публикация русского перевода знаменитого «Комментария» В В Набокова к пушкинскому роману. Издание на английском языке увидело свет еще в 1964 г. и с тех пор неоднократно переиздавалось.
Набоков выступает здесь как филолог и литературовед, человек огромной эрудиции, великолепный знаток быта и культуры пушкинской эпохи. Набоков-комментатор полон неожиданностей: он то язвительно-насмешлив, то восторженно-эмоционален, то рассудителен и предельно точен.
В качестве приложения в книгу включены статьи Набокова «Абрам Ганнибал», «Заметки о просодии» и «Заметки переводчика». В книге представлено факсимильное воспроизведение прижизненного пушкинского издания «Евгения Онегина» (1837) с примечаниями самого поэта.
Издание представляет интерес для специалистов — филологов, литературоведов, переводчиков, преподавателей, а также всех почитателей творчества Пушкина и Набокова.
Отрывки этой песни находятся в ПД 170 и 171 (см. Комментарий).
Примечания Пушкина к ЕО
Черновик, написанный в 1830 г., находится в ПД 172.
Предисловие [к комментарию]
Следующий Комментарий состоит из ряда примечаний ко всем текстам ЕО, включая отвергнутые строфы и варианты, сохранившиеся в тетрадях Пушкина, а также предполагаемые продолжения. Среди этих заметок читатель найдет мои соображения, касающиеся различных текстовых, лексических, биографических и топографических проблем. В Комментарии отмечаются и многочисленные случаи творческих заимствований Пушкина, делается попытка путем разбора конкретной мелодии того или иного стиха объяснить магию пушкинской поэзии. Большей частью мои комментарии являются результатом самостоятельных изысканий, иногда развивают и продолжают исследования других, а в ряде случаев отражают сведения базовые, общеизвестные, которыми владеют все русские почитатели Пушкина.
Четыре «английских» «стихотворных» «перевода», упомянутых в моем Комментарии и, к сожалению, доступных студентам, таковы: «Eugene Onéguine», перевод подполковника Генри Сполдинга (Henry Spalding; London, 1881); «Eugene Onegin», перевод Бабетты Дейч (Babette Deutsch), в книге «Сочинения Александра Пушкина» («The Works of Alexander Pushkin», ред. А. Ярмолинский, New York, 1936 и 1943); «Evgeny Onegin», пер. Оливера Эльтона (Oliver Elton; London, 1937); также он публиковался в периодическом издании «The Slavonic Review» (январь 1936 — январь 1938 г.); и, наконец, «Eugene Onegin», перевод Доротеи Пролл Радии и Джорджа 3. Патрика (Dorothea Prall Radin, George Z. Patrick; Berkeley, Cal., 1937).
Неизмеримо гаже вышеперечисленных новая версия Уолтера Арндта (Walter Arndt), изобилующая пропусками и грубейшими ошибками, — «Eugene Onegin» в даттоновской бумажной обложке (New York, 1963), — попавшая мне в руки уже после того, как Комментарий был отдан в печать, слишком поздно для детального разбора.
В.Н.
КОММЕНТАРИЙ К РОМАНУ А.С.ПУШКИНА «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»
ПРЕДВАРЯЮЩИЕ ТЕКСТЫ
Главный эпиграф
Pétri de vanité il avait encore plus de cette espèce d’orgueil qui fait avouer avec la même indifférence les bonnes comme les mauvaises actions, suite d’un sentiment de supériorité, peut-être imaginaire.
Tiré d’une lettre particulièrePétri de vanité… — Исправления, сделанные в ПБ 8, и инициалы «А.П.», заменяющие эпиграф в ПД 129, наталкивают на предположение, что эта цитата вымышленная, по крайней мере в ее окончательном афористическом виде. Бессмысленно рассуждать, существовало ли когда-нибудь цитируемое «частное письмо», а если существовало, то кто был его автором, но для любителей искать действительных прототипов вымышленных героев и «реальную жизнь» на ведущих в никуда дорогах искусства я приготовил сжатое, сухое исследование в комментарии к гл. 1, XLVI, 5–7.
Мысль снабдить легкомысленную историю эпиграфом философского толка явно позаимствована у Байрона. К первым двум песням «Паломничества Чайльд Гарольда» (London, 1812) Байрон послал Р. Ч. Далласу (16 сентября 1811 г.) эпиграф, начинающийся словами: «L'univers est une espèce de livre, dont on n'a lu que la premièr page»[63] из «Космополита» Луи Шарля Фужере де Монброна (London, 1750, р. 1)[64].
Туманные эпиграфы были особенно любимы английскими авторами; такой эпиграф вызывал интроспективные ассоциации, и тут, конечно, должно вспомнить Вальтера Скотта, самого талантливого сочинителя эпиграфов.
Слово «pétri» в переносном смысле («охваченный», «погруженный», «состоящий из») довольно часто употреблялось французскими авторами, которым подражал Пушкин. Лабрюйер в «Характерах, или Нравах нынешнего века» (1688) использует «pétri» (с написанием «paistri» и «paitri» в первых изданиях) в § 15 главы «О светском обществе и об искусстве вести беседу» («Ils sont comme pétri de phrases»[65]) и в § 58 главы «О житейских благах» («âmes sales, pétries de boue»[66]). Вольтер в письме XLI (1733) говорит, что стихи Жана Батиста Руссо «pétris d'eurreurs, et de haine, et d'ennui»[67], a в Песне III (1767) «Женевской гражданской войны» он характеризует Жан-Жака Руссо как «sombre énergumène… pétri d'orgeuil»[68], что практически равнозначно пушкинскому выражению.
В «Замогильных записках» (1849–1850) Шатобриан называет себя «aventureux et ordonné, passioné et méthodique… androgyne bizarre pétri des sangs divers de ma mère et de mon père»[69] (написано в 1822 г., использовано изд. 1846); в Шатобриановом «Рене» я обнаружил «pétri» по крайней мере однажды: «Mon coeur est naturellement pétri d'ennui et de misère»[70].
В русской литературе еще одно «pétri» (полвека спустя после пушкинского) возникает в своем прямом значении в знаменитой фразе, сказанной по-французски омерзительным гомункулусом в роковом сне Анны Карениной («Анна Каренина», ч. IV, гл. 3).
Главный эпиграф содержит, я полагаю, реминисценции из пассажа Никола де Мальбранша в «Разысканиях истины» (1674–1675, встретившееся мне издание 1712, т. 1, кн. II, ч. III, гл. 5):
«Ceux qui se louent se… [mettent] au-dessus des autres. … Mais c'est une vanité encore plus extravagante… de décreire ses défauts… Montaigne me paroît encore plus fier et plus vain quand il se blâme que lorsqu'il se loue, parce que c'est un orgueil insupportable que de tirer vanité de ses défauts… J'aime mieux un homme qui cache ses crimes avec honte qu'un autre qui les publie avec effronterie»[71]
Я также полагаю, что главный эпиграф содержит если не прямые аллюзии на Жан Жака Руссо и на оказанное им влияние на воспитание, то, во всяком случае, на возможные отголоски дискуссий тех времен по этому поводу. Ритмика фразы близка цитате из Руссо в пушкинском примечании 6 (к гл. 1, XXIV, 12). В памфлете, увидевшем свет в начале 1791 г. («Письмо члену Национальной Ассамблеи [Менонвилю] в ответ на некоторые возражения по поводу его книги о положении дел во Франции» Эдмунд Бёрк, этот, по словам Гиббона, «многословный и простодушный» оратор, так говорит о Руссо: «У нас в Англии… был основатель философии тщеславия [который] исповедовал один-единственный принцип — …тщеславие. Этим пороком он был одержим почти до сумасшествия. Именно благодаря этому нездоровому эксцентричному тщеславию…» Но позвольте я продолжу во французском переводе («Lettre de M, Burke, à un membre de l'Assemblée National de France», Paris, 1811), который мог попасться на глаза Пушкину: «Ce fut cette… extravagante vanité qui [le] détermina… à publier une extravagante confession de ses faiblesse… et à chereher un nouveau genre de gloire in mettant au jour ses vices bas et obscurs»[72] и далее в оригинале: «С его [Руссо] помощью они [власти революционной Франции] вселяют в свою молодежь примитивную, грубую, отвратительную, удручающую, дикую смесь педантизма и распущенности».
В библиотеке Пушкина хранилось разрезанное издание «Размышлений о Французской революции» Эдмунда Бёрка («Réflections sur la révolution de France». Paris, 1823), анонимный перевод с английского «Reflections on the Revolution in France» (London, 1790), той самой книги «о положении дел во Франции» из памфлета 1791 г.
Впрочем, тщетно было бы искать в этих публикациях источник эпиграфа из Бёрка в ПБ 8 (см. ниже: «Отвергнутые эпиграфы»), Я проследил его вплоть до доклада «Размышления и подробное описание скудости, впервые представленное высокочтимому Вильяму Питту в ноябре месяце 1795 г.» Отрывок, в котором появляется текст эпиграфа, звучит так:
«If the price of the corn should not compensate the price of labour… the very destruction of agriculture itself… is to be apprehended. Nothing is such an enemy to accuracy of judgment as a coarse discrimination, a want of such classification and distribution as the subject admits of. Increase the rate of wages to the labourer, say the regulators…»[73]
He могу себе вообразить Пушкина, в то время не владевшего английским (и столь же безразличного к огородным вредителям в Англии, сколь и к саранче в России), который бы читал рассуждения сквайра Бёрка о бобах и репе. Скорее всего, он набрел на эту цитату в чьем-нибудь альбоме и собирался использовать ее, возможно намекая на читателей, не делающих «разграниченья» между автором и его персонажами[74], — эта мысль вновь возникает в гл. 1, LVI, где Пушкин настаивает на разнице между автором и главным героем, дабы не получить обвинения в подражании Байрону, который в своих героях выводил себя. Надо отметить, что, по свидетельству биографов Байрона, последний любил посылать (из Венеции) порочащие его заметки в парижские и венские газеты в надежде, что британская пресса их перепечатает, и что он получил (от герцога де Брогли) прозвище «un fanfaron du vice»[75] — a это вновь возвращает нас к главному эпиграфу.
Отвергнутые эпиграфы
Беловая рукопись первой главы (хранящаяся под номером ПБ 8 и именуемая «Автографом» в Акад. 1937), подготовленная Пушкиным в Одессе не раньше октября 1823 г. и не позже января 1824 г., в некоторых частностях отличается от первого издания главы (16 февраля 1825 г.). Эта беловая рукопись снабжена написанным на обложке главным эпиграфом: строками 252–253 поэмы Евгения Баратынского «Пиры» (позже Пушкин собирался использовать их в качестве эпиграфа к гл. 4, если судить по беловой рукописи этой песни); далее идет заглавие «Евгений Онегин», а под ним еще один эпиграф. «Nothing is such an ennemy [sic] to accuracy of judgment as a coarse discrimination. Burke» (см. выше: «Главный эпиграф») Затем стоит: «Одесса. MDCCCXXIII» и два эпиграфа к главе. Первый:
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Комментарий к роману "Евгений Онегин""
Книги похожие на "Комментарий к роману "Евгений Онегин"" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Владимир Набоков - Комментарий к роману "Евгений Онегин""
Отзывы читателей о книге "Комментарий к роману "Евгений Онегин"", комментарии и мнения людей о произведении.