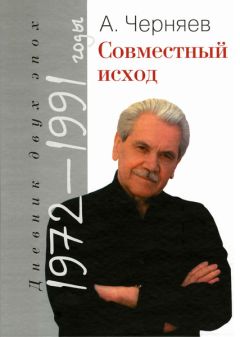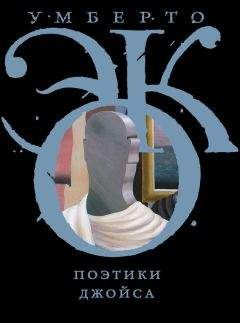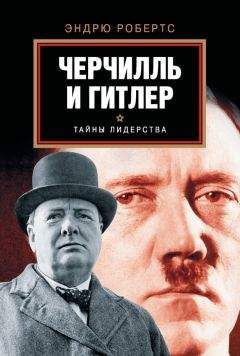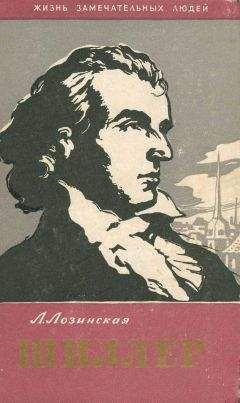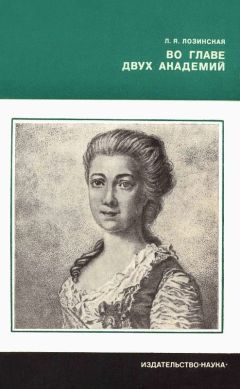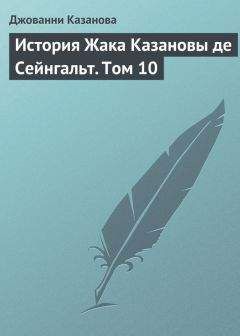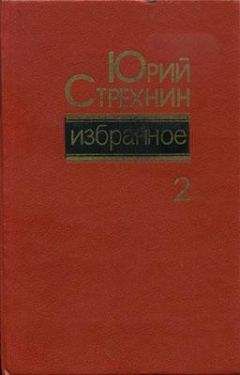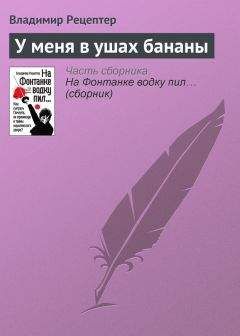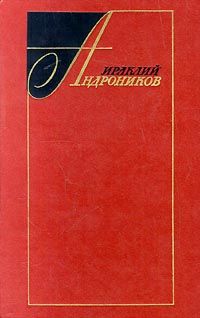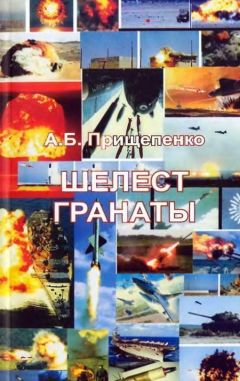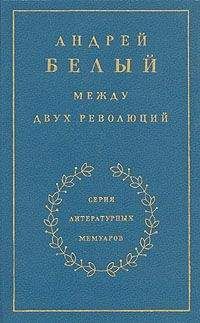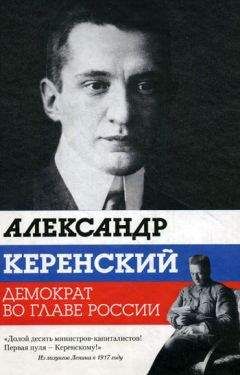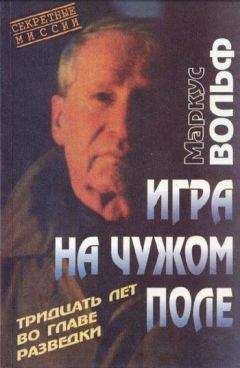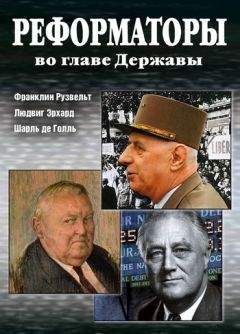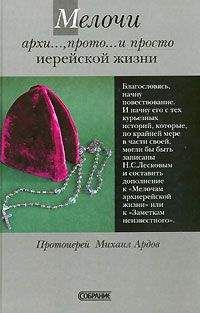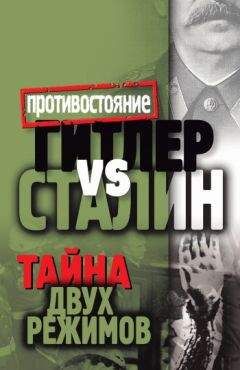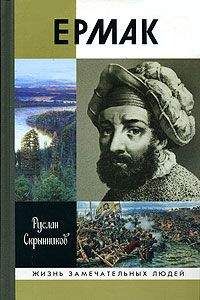Лия Лозинская - Во главе двух академий
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Во главе двух академий"
Описание и краткое содержание "Во главе двух академий" читать бесплатно онлайн.
Но чем Дидро действительно оказал русской гостье немаловажную услугу – это советом не принимать Рюльера, бывшего атташе французского посольства в Петербурге. Встреча Дашковой с Рюльером могла еще ухудшить отношение к ней императрицы.
Дело в том, что Екатерина II была крайне недовольна книгой Рюльера, где приводилось немало фактов о закулисной стороне переворота, и рукопись которой автор читал в парижских салонах. Императрица поручила русскому посланнику в Париже приобрести рукопись.
Но единственное, чего добилась, – обещания не печатать книгу при ее жизни.
В письме Екатерине II уже после отъезда русской путешественницы Дидро писал, что отказ княгини Дашковой принять Рюльера значительно поколебал веру французов в правдивость этой книги, «чего десять Вольтеров и пятнадцать жалких Дидро были не в силах достичь». Екатерина Романовна узнала впоследствии об этом письме и сохранила благодарную память об оказанной ей философом двойной дружеской услуге*.
* Книга была издана только в 1797 г., вскоре после смерти Екатерины II, наследниками автора (ум. в 1791 г.). Дашкова в первый свой приезд в Париж, должно быть, еще не читала рукописи, однако вскоре с ней познакомилась (о ее замечаниях на книгу Рюльера см. ниже). Во время второго приезда в Париж Дашкова, очевидно, видела Рюльера.
По словам Дашковой, она ежедневно виделась с Дидро.
«Наши беседы начинались во время обеда и длились иногда до двух-трех часов ночи... Добродетель и правда были двигателями всех его поступков, общественное благо было его страстной и постоянной целью»3. Сам философ, правда, говорит несколько иначе: «... Я провел с ней о это время четыре вечера, от пяти часов до полночи, имел честь обедать и ужинать...» Но в конце концов, дело не в количестве проведенных вместе часов.
Какою увидел Дашкову Дидро? Он написал ее портрет под непосредственным впечатлением их знакомства...
«Княгиня Дашкова – русская душой и телом... Она отнюдь не красавица. Невысокая, с открытым и высоким лбом, пухлыми щеками, глубоко сидящими глазами, не большими и не маленькими, с черными бровями и волосами, несколько приплюснутым носом, крупным ртом, крутой и прямой шеей, высокой грудью, полная – она далека от образа обольстительницы. Стан у нее неправильный, несколько сутулый. В ее движениях много живости, но нет грации... Печальная жизнь отразилась на ее внешности и расстроила здоровье. В декабре 1770 года ей было только двадцать семь лет, но она казалась сорокалетней...»4
Этот портрет, не слишком лестный для молодой женщины, можно найти во многих старых журналах. Но не ради пего писал философ статью о Дашковой: «отнюдь не красавица», она несомненно впечатлила его как личность.
«...Это серьезный характер. По-французски она изъясняется совершенно свободно. Она не говорит всего, что думает, но то, о чем говорит, излагает просто, сильно И убедительно. Сердце ее глубоко потрясено несчастиями, но в ее образе мысли проявляются твердость, возвышенность, смелость и гордость. Она уважает справедливость и дорожит своим достоинством... Княгиня любит искусства и науки, она разбирается в людях и знает нужды своего отечества. Она горячо ненавидит деспотизм и любые проявления тирании. Она имела возможность близко узнать тех, кто стоит у власти, и откровенно говорит о добрых качествах и недостатках современного правления. Метко и справедливо раскрывает она достоинства и пороки новых учреждений...»
Судя по этим словам, между 57-летним философом и 27-летней княгиней велись серьезные и доверительные беседы. Дидро рассказывал Е.Р. Дашковой о положении дел во Франции, да и не только об этом, должно быть.
«...Вечером я приходил к ней потолковать о предметах, которых глаз ее не мог понять и с которыми она могла вполне ознакомиться только с помощью долгого опыта, – с законами, обычаями, правлениями, финансами, политикой, образом жизни, науками, литературой: все это я объяснил ей, насколько сам знал...»
С улыбкой отмечает Дидро англофильство Дашковой. «Она так любит англичан, что я боюсь за ее пристрастие к этому антимонархическому народу в ущерб моей собственной нации».
Это снисходительная улыбка старшего. Дидро быстро распознал непоследовательность взглядов русской княгини: и некоторую нечеткость ее конституционно-монархических идеалов, и противоречивость ее отношения к Екатерине, в котором переплелись восхищение и разочарование.
Но жизненная позиция Дашковой, ее нравственный облик, ее личность импонировали Дидро. Его восхитили твердость ее характера «как в ненависти, так и в дружбе», мужество, с которым она переносила свою «темную и бедную жизнь» (философ здесь несколько сгустил краски), естественность ее поведения, «решительное отвращение к светской жеманности». Ему запомнилась даже антипатия, которую Дашкова почувствовала к борцу за свободу Корсики – Паоли, когда, встретившись с ним в Лондоне, узнала, что он живет «нахлебником и пансионером двора» («...она выразилась: «Бедность есть лучший пьедестал подобного ему человека». Я вполне понимаю ее мысль...»).
Знакомство с Дашковой сыграло, должно быть, не последнюю роль в решении философа посетить давно уже интересовавшую его Россию.
А как рассказала о парижских встречах 1770 г. сама Дашкова?
В «Записках» есть страницы, не раз привлекавшие особое внимание и первых их читателей, и современных исследователей. Те, где Екатерина Романовна излагает свои разговоры с Дидро о крепостничестве.
«Однажды разговор коснулся рабства наших крестьян5.
– У меня душа не деспотична... вы можете мне верить. Я установила в моем орловском имении такое управление, которое сделало крестьян счастливыми и богатыми и ограждает их от ограблений и притеснения мелких чиновников. Благосостояние наших крестьян увеличивает и наши доходы, следовательно, надо быть сумасшедшим, чтобы самому иссушить источник собственных доходов...
– Но вы не можете отрицать, княгиня, что, будь они свободны, они стали бы просвещеннее и вследствие этого богаче.
– Если бы самодержец, – ответила я, – разбивая несколько звеньев, связывающих крестьянина с помещиком, одновременно разбил бы звенья, приковывающие помещиков к воле самодержавных государей, я с радостью и хоть бы своею кровью подписалась бы под этой мерой. Впрочем, простите мне, если я вам скажу, что вы спутали следствия с причинами. Просвещение ведет к свободе; свобода же без просвещения породила бы только анархию и беспорядок. Когда низшие классы моих соотечественников будут просвещены, тогда они будут достойны свободы, т[ак] к[ак] они тогда только сумеют воспользоваться ею без ущерба для своих сограждан и не разрушат порядка и отношений, неизбежных при всяком образе правления.
– Вы отлично доказываете, дорогая княгиня, но вы меня еще не убедили...»
Однако прервем ненадолго этот диалог, чтобы вспомнить эпизод, происшедший за несколько лет до парижской встречи русской княгини и французского философа.
1 ноября 1766 г. в Вольное экономическое общество поступило щедрое пожертвование: неизвестная особа передавала Обществу «на такое употребление, какое оно заблагорассудит», тысячу червонцев.
Вольное экономическое общество, основанное в 1765 г. для «исправления земледелия и домоводства», как определено было в учредительном указе, находилось под особым покровительством Екатерины. Состояли в нем наиболее влиятельные придворные, главным действующим лицом был Григорий Орлов. Дашкова также являлась членом Общества.
В письме, сопровождавшем анонимное пожертвование (кстати сказать, императрица предлагала дарителю две тысячи взамен его одной, если только он откроется, о чем было объявлено в четвертой части «Трудов к поощрению в России земледелия и домостроительства» и в некоторых иностранных газетах), рекомендовалось обсудить вопрос о «поземельной собственности» крестьян – крепостной зависимости.
Экономическое общество решило объявить конкурс на лучшее сочинение на тему: «Что полезнее для общества: чтоб крестьянин имел в собственности землю или токмо движимое имение, и сколь далеко его права на то или другое имение простираться должны?»6.
Не следует забывать, что дело происходило в либеральную пору екатерининского царствования: 1767 год, Когда предполагалось подвести итог упомянутого конкурса, был годом собрания «депутатов всех сословий» (ни к чему, как известно, не приведшего). Шло следствие по делу кровавой барыни Салтычихи, которая своими злодействами над крепостными людьми ужаснула XVIII столетие. Существует предположение, что именно дело Салтычихи и послужило одним из поводов предложить Экономическому обществу публично обсудить вопрос о крепостном праве в России7.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Во главе двух академий"
Книги похожие на "Во главе двух академий" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Лия Лозинская - Во главе двух академий"
Отзывы читателей о книге "Во главе двух академий", комментарии и мнения людей о произведении.