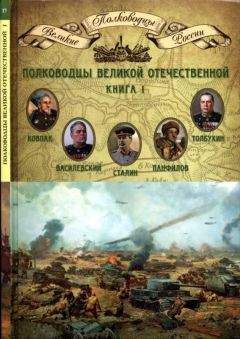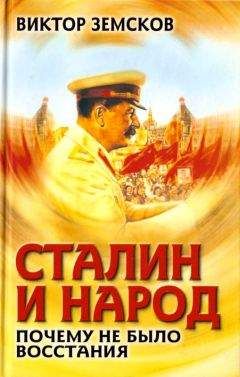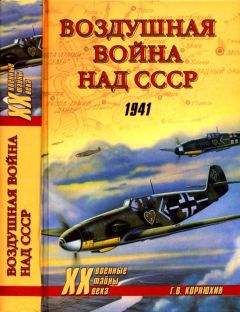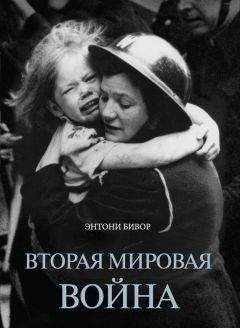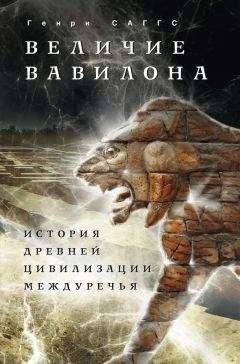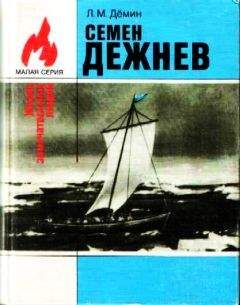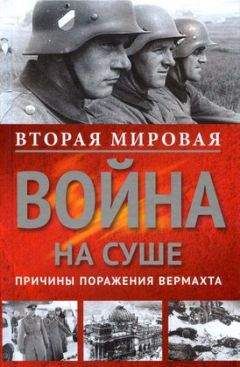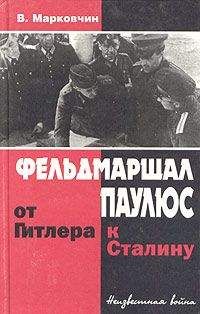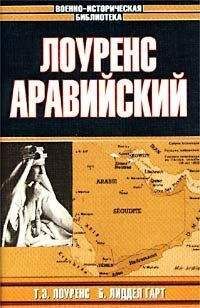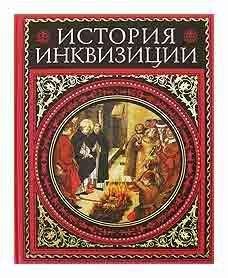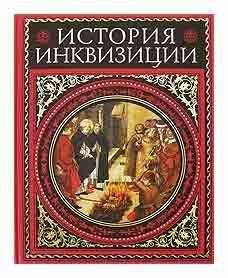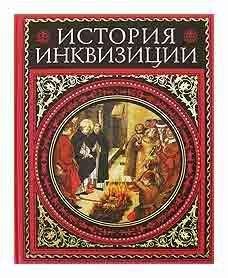Эрнст Генри - Гитлер против СССР
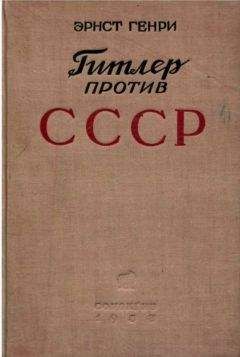
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Гитлер против СССР"
Описание и краткое содержание "Гитлер против СССР" читать бесплатно онлайн.
В вышедших в середине 1930-х годов книгах никому тогда неизвестного Эрнста Генри предсказывались Вторая мировая война и поражение Гитлера в столкновении с Советским Союзом. Вопреки существовавшим «установкам» и стереотипам, в них звучал страстный призыв к единству всех антифашистских сил. Первоначально опубликованные в Англии, книги были переведены на многие языки и принесли автору мировую известность. Лишь узкому кругу было известно, кто скрывался за псевдонимом «Эрнст Генри». На самом деле автором был Семён Николаевич Ростовский (Массерман Семен Николаевич, Хентов Лейба Абрамович, псевд. Эрнст Генри) (1904–1993) — разведчик, писатель, журналист. Как агент ОГПУ с 1920 года жил в Германии, состоял в германской компартии, был членом ЦК. В 1933 году переезжает в Англию. Офицер НКВД по связям нелегальными агентами (в том числе с Кимом Филби и Дональдом Маклином, членами знаменитой «кембриджской пятерки»). Судьба автора поистине уникальна. В 1951 году вместе с Д. Маклином вернулся в СССР, был арестован и 4 года пробыл в заключении. В 1965 году написал открытое письмо И. Эренбургу, по поводу оценки последним роли Сталина в воспоминаниях «Люди, годы, жизнь», которое широко распространялось в самиздате. Подписал несколько коллективных писем, протестуя против тенденций возврата к сталинизму в конце 60-х годов. Письмо было опубликовано в 1967 году в № 63 журнала «Грани» (ФРГ), на родине — в 1997 в сборнике «Самиздат века». (Подробнее можно почитать здесь http://vivovoco.rsl.ru/VV/PAPERS/BIO/HENRY.HTM).
В нашей стране книги Э.Генри, особенно «Гитлер против СССР» (изданная в 1937 и 1938 гг., а также в 1941 г. — в сокращении), до сих пор остаются в памяти старшего поколения. Раскрытые в них закономерности возникновения фашизма и его пути к власти, анализ авторитарного реакционного режима не теряют своей актуальности, ибо применимы к событиям не только прошедшей эпохи. Также как и мысль о необходимости сплочения всех сил, вне зависимости от их национальной принадлежности, способных противостоять любым попыткам разрушения демократических прав и свобод.
Данное издание - репринт книги 1938 года. Сохранена орфография и пунктуация автора и издательства
В чем действительное различие между обеими стратегиями? Это различие между капитализмом и феодализмом; между орудиями двух эпох. Наполеон побеждал посредством своей экстенсивной стратегии, доведенной до кульминационного пункта, потому что феодализм — домашинный общественный строй — предоставлял ему пространство и время для этого; он использовал максимально и то и другое.
Он использовал пространство, владея открытыми, незащищенными оперативными путями с помощью простых средств «специфического превосходства» в человеческом материале (тактическая концентрация) и выигрывал в темпе (быстрота переходов); обычно он разбивал противника еще до начала сражения. Наполеон пал тогда, когда при Ватерлоо его генерал де-Груши превратил этот принцип в свою противоположность.
Он наилучшим образом использовал время так как война докапиталистической эпохи без применения механизации делала его полностью независимым от всякой технической подготовки; ему не было нужды ждать чего бы то ни было (например, завершения обширных программ вооружения, как это приходится делать современным стратегам), и он мог бросать свои войска туда, куда ему хотелось и в любой момент, когда он считал это нужным.
Таким образом он завоевал континент и стал чуть ли не новым Александром Великим, чуть ли не завоевателем мира; на самом деле это было высшим и окончательным выражением достигшей своего кульминационного пункта феодальной военной стратегии — чисто экстенсивного, свободного движения людей на открытом пространстве.
Капитализм покончил с этой стратегией, так же как и с феодализмом вообще, и превратил Наполеона в военного недоросля. Он принес с собой технику, оборонительные и наступательные машины, и гигантские массы железа, бетона и химических средств, которыми он преградил пути и дороги, замкнул открытые пространства, парализовал движение и ограничил время. И чем дальше шел этот процесс, чем больше влияние капитализма изменяло и преобразовывало средства ведения войны — материальную базу, орудия, место сражения и военную науку, тем все более новым стратегическим ключом к превосходству становился предельный организационный и территориальный интенсивизм (ограничение) для цели концентрического прорыва, единственно возможного пути к победе.[62]
Для этого необходимо: во-первых, максимально возможная ограниченность всего пространства неприятельской страны, глубины и протяженности неприятельского хинтерланда, для того чтобы с помощью прорыва сразу обеспечить решение, т. е. для того, чтобы иметь возможность немедленно достигнуть неприятельских центров (даже после успешного прорыва современная стратегия допускает возвращения к стратегии движения только на краткий период, а именно — не на слишком большие расстояния, так как противник может организовать новые оборонительные позиции[63]). И, во-вторых, максимальная ограниченность потенциальных резервов противника для того, чтобы избежать слишком равномерной концентрации собственных сил по всей длине фронта или впоследствии, в дальнейшем продвижении, не встретиться со снова выравненным фронтом противника.[64] В итоге необходим неприятель с возможно коротким хинтерландом, с минимальным числом и как можно ближе расположенными крупными центрами, в стране с возможно меньшим населением.
Именно таков был «неприятель», избранный согласно шлиффенов—скому плану и всей современной германской «западной стратегии»: это — Франция или, говоря более конкретно, Париж. Ведь Шлиффен в своем плане нашел идеальный объект, удовлетворявший всем этим, условиям. Имелись налицо: относительно короткая французская граница, близость пункта главного прорыва (Бельгия) от неприятельского центра — Парижа; 40-миллионное население Франции по сравнению с 70-миллионным в Германии. Стратегия Шлиффена и стратегия современной ему германской военной школы стояла на высоком уровне и была единственно возможной именно потому, что Шлиффен выбрал этого «идеального» противника, выбрал лучшее направление.
Эта стратегия отвечала потребностям своего времени. Она превосходила наполеоновскую стратегию и имела преимущество по сравнению с ней не потому, что ее методы были выше или ее полководцы более талантливы, но потому, что она базировалась на капитализме, приняла капитализм как главный элемент в своих расчетах и благодаря капитализму приобрела военное первенство.
Этот краткий стратегический очерк был необходим: он содержит смертный приговор плану Гофмана с военной точки зрения.
Гофман бросил вызов германскому генеральному штабу и мечтал об «экспедиции на восток», потому что, минуя всю современную стратегическую школу Клаузевица — Шлиффена — Людендорфа — Секта, он хотел вернуться назад к Наполеону. В окружении прусских генералов, воспитанных в атмосфере наиболее современного военного опыта и традиций, этот своеобразный военный ум не переставал мечтать о великом корсиканце и признавать его своим непосредственным учителем. Он не скрывал своего убеждения, что «Наполеон был величайшим полководцем всех времен» (курсив мой. — Автор).
Войны Наполеона казались Гофману высшим достижением военного гения, его сражения и походы — образцами военного искусства, а его кампания в 1812 г. от Парижа до Москвы — стратегической неоконченной симфонией. Он учил Наполеона наизусть (Шлиффен и Сект изучили Ганнибала, а Сект занимался также техникой и экономикой) и фактически внес всего лишь один корректив в наполеоновские планы. Гофман буквально заявил, что если бы Наполеон имел в 1812 г. железные дороги, моторизованный транспорт и телефоны, «то он еще сегодня был бы в Москве».[65] Так разрешал он проблему: Наполеон плюс железные дороги восстанавливали в новой форме стратегию великих нашествий, которая должна была преодолеть шлиффеновские «ограничения» и снова вызвать к жизни великую военную эпоху.
В этом заключался в основном вызов, брошенный руководящей научной школе германской армии и ее политике «про-восточной» и «анти-западной» ориентации. Эти люди — не только Сект, но и Людендорф — знали из опыта последних пятидесяти лет и особенно последней мировой войны, что плотная механическая стена обороны сегодняшнего дня, являющаяся созданием капитализма, отбросила и уничтожила все специфические атрибуты прежней, и особенно наполеоновской, стратегии движения — эластичность пространства, быстроту, чисто тактическую концентрацию; они понимали, что сегодня было бы достаточно линии современных укреплений и двух «механизированных» дивизий, чтобы уничтожить любого Наполеона в разгаре его «блистательных маршей»; для них было ясно, что железные дороги, автомобили и танки, если они имеются также и у неприятеля, не только не ликвидируют позиционную войну, но скорее ожесточают ее, и что даже «Наполеон на автомобилях» с коммуникационными линиями позади него все же обнаружит впереди себя герметически закрытую линию обороны, которая может быть прорвана в одном месте при максимальной затрате сил; и что как раз при таком прорыве уже нельзя отдавать предпочтения фронту наибольшей длины и наибольшей глубины, — фронту, который представляет собой громадный СССР, с территорией в 21 млн. км2 и с населением в 175 млн., а ладо ориентироваться на сравнительно короткую линию обороны — на запад.
В этой стратегической аксиоме заключался простой секрет «русской ориентации» научной военной школы, которая взирала на гофмановский «нео-наполеонизм» с презрением и ужасом. Сект и другие приверженцы неизменной ценности шлиффеновского плана естественно приняли во внимание тот факт, что там, на западе, вырос тем временем новый барьер, оставивший далеко за собой все форты Вердена, это — фортификации Вейгана. Но ведь именно поэтому они и были «руссофилами».
Они рассчитывали на многомиллионную русскую армию и на другие неисчерпаемые силы и возможности СССР, которые в сотрудничестве с Германией опрокинут этот барьер. Эта схема могла быть основана на серьезной политической иллюзии (это, без сомнения, так и было) — на вере в то, что такой германо-русский военный союз возможен. Но если он возможен — а этого как раз и добивались эти генералы, — то и этот план со стратегической точки зрения был действительно большим маневром; это был, вообще говоря, единственный военный план, приемлемый для Германии после войны. Не могло быть сомнений, что такой германо-русский военный союз, т. е. соединение и синтез этих огромных человеческих, технических и экономических ресурсов, союз, охватывающий четверть миллиарда людей, сможет одним толчком изменить любое соотношение сил в Европе. В Западной Европе не будет тогда никакой силы, ни одной стратегической позиции, которая смогла бы устоять перед этим сокрушительным напором. Осуществление второго плана Шлиффена было бы делом совсем нетрудным, а Версаль стал бы не более как пустым звуком.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Гитлер против СССР"
Книги похожие на "Гитлер против СССР" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Эрнст Генри - Гитлер против СССР"
Отзывы читателей о книге "Гитлер против СССР", комментарии и мнения людей о произведении.