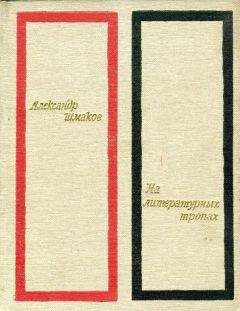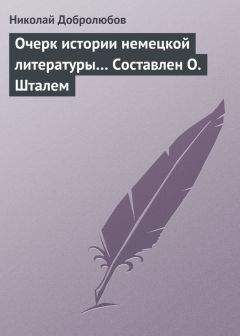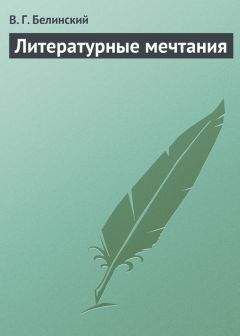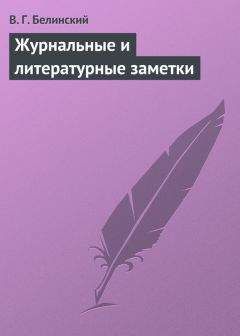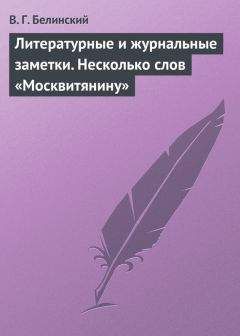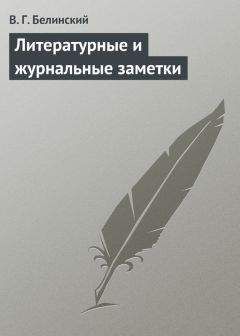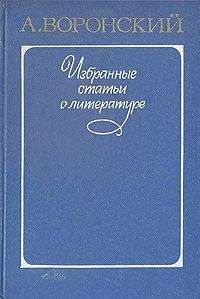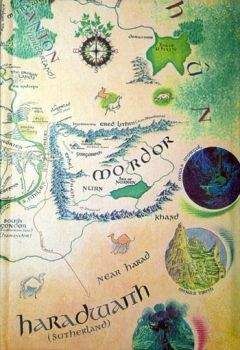Георгий Адамович - Литературные беседы. Книга вторая ("Звено": 1926-1928)

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Литературные беседы. Книга вторая ("Звено": 1926-1928)"
Описание и краткое содержание "Литературные беседы. Книга вторая ("Звено": 1926-1928)" читать бесплатно онлайн.
В двухтомнике впервые собраны все ранние работ известного эмигрантского поэта, эссеиста и критика Георгия Викторовича Адамовича (1892-1972), публиковавшиеся в парижском журнале «Звено» с 1923 по 1928 год под рубрикой «Литературные беседы».
Этот особый, неповторимый жанр блистательной критической прозы Адамовича составил целую эпоху в истории литературы русского зарубежья и сразу же задал ей тон, создал атмосферу для ее существования. Собранные вместе, «Литературные беседы» дают широкую панораму как русской литературы по обе стороны баррикад, так и иностранных литератур в отражении тонкого, глубокого и непредвзятого критика.
Книга снабжена вступительной статьей, обстоятельными комментариями, именным указателем и приложениями.
Для самого широкого круга читателей.
– Молчи, молчи, – сказал Сучков сквозь зубы.
Наверху на обрыве заскрипели шаги, и голос Матти (финн, сообщник Сучкова по шпионству) торопливо проговорил:
– Кончай скорей!
Ваpвapa выпрямилась, раскрыла рот – захватить воздуху. Крикнула. Страшнее всего было землистое длинное лицо мужа. Глядел с такой неистовой злобой, как черт…
Ваpвapa было рванулась с песка, он схватил ее за ногу, опрокинул, живо вскочил на грудь, обхватил шею ледяными пальцами. Душил, работая плечами. Отпустил одну руку, вытащил из песка кирпич и ударил им несколько раз Варвару по голове, – бил, Василий Сучков покуда кирпич не разломился. Потом слез с Варвары, оглянулся на лицо ее, залитое кровью, и пошел вдоль воды. Матти уже шагал далеко по пустырю к кладбищу».
Эта длинная цитата, вероятно, удивит читателя. Я привел ее не в качестве «страницы, достойной включения в антологию». Ничего исключительного в ней нет. Но она характерна для теперешнего толстовского уверенно-легкого, безошибочного письма.
< БЕТХОВЕН>
Моя сегодняшняя беседа будет не вполне «литературной». Но предупреждая об этом, я едва ли должен оправдываться. Ограничить себя суждениями о литературе лишь в узком, техническом или ремесленном смысле слова было бы бессмысленно. В эти дни Европа вспоминает человека, который, хотя и был технически или ремесленно только музыкантом, по существу является одним из самых великих творцов искусства вообще, Искусства с большой буквы, где духовность, одухотворение достигает такой высоты, что вопрос о материале как бы теряет значение. Бетховен, конечно, был поэтом, – в том же смысле, что Шекспир или Рембрандт. О Бетховене можно говорить технически только как о «композиторе». Но с не меньшим правом о нем можно судить и иначе.
* * *
Поэтому поговорим о Бетховене. Но не будем определять своего отношения к нему. Пусть он сейчас не в моде, пусть музыкальные властители дум сейчас к нему холодны – это не имеет никакого значения. Или точнее: это показательно и значительно только для нас самих, но не для Бетховена. От Бетховена многие отошли, но его никто не развенчал. Не может умереть такое искусство: душа не уничтожается. Одни ее разлюбили, другие потом полюбят, но она всегда продолжает жить. Это не то что «блестящее мастерство», которое вдруг оказывается нисколько не блестящим, никому не нужным и безвозвратно бросается в груду общего хлама.
* * *
Необъяснимо и таинственно, как могут звуки — т. е. нечто в самом себе лишенное смысла и содержания — передавать то, что является достоянием слова, мысли, как могут они не быть только игрой. Необъяснимо на самом простом примере: отчего мажорная гамма всеми ощущается как радость, по сравнению с печальной минорной? В чем тут дело? «Научные», материалистические объяснения, даваемые в учебниках, ровно ничего не объясняют… А уж объяснять, как сумел Бетховен создать из звуков целый мир, со своей особой судьбой, с восхождением и падением, с многозначительным концом — решительно невозможно. Однако нельзя сомневаться, что Бетховен принес в мир музыку глубоко атеистическую, заносчивую, «безбожную», и что только в этом его отличие от Баха и Моцарта. Часто говорят, что до Бетховена в музыке не было страсти. Это очень странное недоразумение. Моцарт порой так страстен, Бах так грозно-патетичен, как никто и никогда после. Моцартовские скрипки изнывают, исходят, изливаются каким-то чувственнейшим томлением… Если же чего, действительно, нет в них, то это лишь дерзости, гордости, того «я, я! мы, мы!», которое ревет у Бетховена в самых ранних его вещах. Обо всем этом с величайшей проницательностью писал Шпенглер, не стоит повторять его. Кстати: как часто теперь, везде и всюду повторяются мысли Шпенглера об искусстве, – иногда теми же самыми людьми, которые презрительно называют его книгу плоской и грубой.
* * *
«Бытие определяет сознание»: сознание Бетховена, действительно, отразило современное ему «бытие». Век просвещения и разума, Руссо, мечты французской революции в ее жирондистских оттенках, наконец, Шиллер с его экстатическим гуманизмом — все это волновало Бетховена. Но он не ограничился отражением, а преломил тему, вновь прочувствовал ее и изменил до неузнаваемости, в конце концов. Бетховенская музыка начинается со звуков, «упоенных», сладостно-радостных. У Мендельсона «кружилась голова», когда он в детстве слушал раннюю бетховенскую патетическую сонату. Ему казалось, что он делает что-то «запретное, недозволенное», — как это понятно! Мало-помалу Бетховен свыкся с прославлением «радости», и эта его программная «радость» длилась долго, очень долго, вплоть до Седьмой симфонии, где он с ней как бы прощается. Но, в сущности, нечто неблагополучное в бетховенских ликованиях чувствуется с самого начала. Опять здесь напрашивается сравнение с Моцартом. У Бетховена всегда напряжение, никогда нет беспечности. Будто: «возликуем, братия»… а там будь что будет. И чем дальше, тем все очевиднее это становилось. Одиночество человека, или, нет, – одиночество человечества в мире легло великой тяжестью на музыку Бетховена. Правда, оно ему иногда казалось свободой, и тогда-то он и «ликовал». Бесконечно повторяющаяся, утихающая и взлетающая тема сонаты Waldstien неотразима. Братство, это восхитительное и волшебное слово fraternite, природа, воля, прекрасный мир с прекрасным небом и солнцем, любовь, дружба — все звучит в ней. Но как-то слишком уж подчеркнуто ликование, — закрадываются сомнения, одолевают опасения. Не деланно ли, не нарочито ли? Это не отдых после труда, не спокойное веселье счастливого человека: это бешенство, не знающее удержу, с отдаленным привкусом «apres nous le deluge».
В лирической форме мечты об «освобожденном человечестве» и весь жан-жако-шиллеровский бред обнаружил яснее всего свою сущность.
* * *
От Waldstein Sonate и ее мрачной сестры Аппассионаты, от Пятой и Седьмой симфоний, — минуя прелестную Восьмую, это «улыбчивое чудо» — приходим наконец к Девятой. По общему признанию это величайшее создание Бетховена, — и с этим нельзя спорить. Настолько ощутимо, что это одна из вершин всемирного искусства, что самое объявление об исполнении Девятой всегда звучит торжественно, — как объявление о «Страстях» Баха или о «Тристане». На «Девятую» до сих пор идут с некоторым трепетом, не только послушать, но и «приобщиться».
Мне часто вспоминается Петербург и, в последние годы перед войной, концерты в Дворянском собрании. Еще чаще – утренние репетиции, в девять часов в полутемной, странно-будничной зале, с холодком и снегом за окнами. Утром иначе слушаешь музыку, чище и яснее понимаешь ее.
На эстраде стоял Никиш – воплощение «духа музыки». Шел финал Девятой симфонии. Никиш, как всегда, был бледен, сдержанно-меланхоличен и, как всегда, медленно поднимая руку, то и дело поправлял седую прядь на лбу. Оркестр играл прекрасно, певцы пели отлично. Но Никишу что-то не нравилось. Он останавливался, нервно стучал по пюпитру, приговаривал «Nein… nein» и недовольно качал головой.
Наконец он резко взмахнул палочкой и без остановок довел симфонию до конца.
Что не нравилось ему? Мне думается сама симфония, самый этот прославленный финал. Прошу прощения у музыкантов, если я говорю ересь. Но ведь и профану можно иногда высказать свое мнение: он ужасен, этот финал в своей безнадежно-размеренной мертвенности, с вскриками хора, с «ариями» солистов, со всей этой грубой бутафорией всенародного братского ликования. Нельзя слушать его без глубочайшей грусти. В последний раз Бетховен попытался прославить «свободу и радость» и на высоте сил сорвался, как никогда. Это подлинная катастрофа, неудача полная и трагическая. И какая фальшь!
Конечно, истинным эпилогом Бетховена является не заключительная часть Девятой симфонии, даже не «Месса», а те удивительные последние квартеты, за которые его долгое время считали сумасшедшим. Там — программа выполнения замысла, внутренне уже потерпевшего крушение. В квартетах — исповедь, подведение итогов, разговор с самим собой. И надо еще раз повторить, что более суровой, скорбной, как бы беспощадной музыки нет на земле. Хочется добавить еще: и более «взрослой». Никаких иллюзий не осталось, а о ликовании смешно и вспоминать… Если Бетховен — «пророк новых эпох», и если симфонии его — «краеугольный камень нового искусства, радостно зовущего людей на объединение», то спросим все-таки: «на пороге новых времен» что же такое эти квартеты? нет ли в них некоторого предостережения, исходящего от человека, который со своих высот увидел то, что ни сыновья, ни внуки его еще не видели.
< «ЛЕЙТЕНАНТ ШМИДТ» Б.ПАСТЕРНАКА >
В «Воле России» напечатано одиннадцать стихотворения Бориса Пастернака. Все эти стихи объединены одним названием «Лейтенант Шмидт», с подзаголовком «из поэмы “1905 год”». Представляют ли они собой законченный, самостоятельный эпизод или это случайные отрывки — решить трудно. Связь между отдельными стихотворениями крайне хрупка и неясна. Построение крайне прихотливо. Конечно, при растяжимости теперешних понятий, можно целое назвать поэмой, как это и сделала в примечании «Воля России». Но ведь в наши дни можно назвать поэмой решительно все, что угодно, — и никто не удивится.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Литературные беседы. Книга вторая ("Звено": 1926-1928)"
Книги похожие на "Литературные беседы. Книга вторая ("Звено": 1926-1928)" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Георгий Адамович - Литературные беседы. Книга вторая ("Звено": 1926-1928)"
Отзывы читателей о книге "Литературные беседы. Книга вторая ("Звено": 1926-1928)", комментарии и мнения людей о произведении.