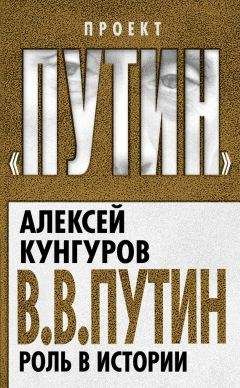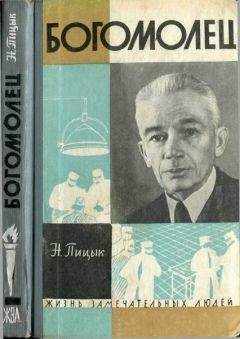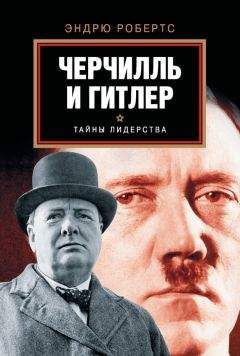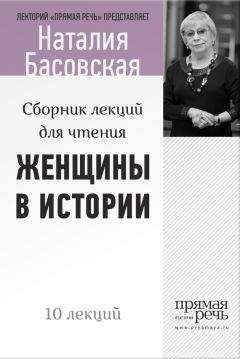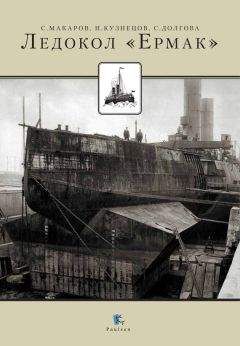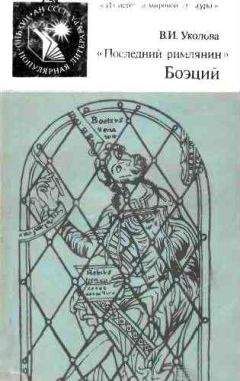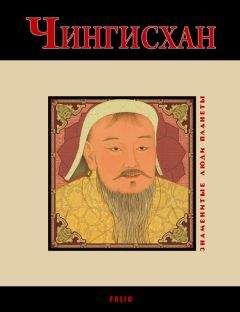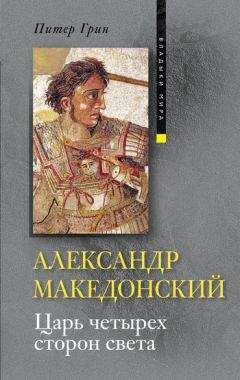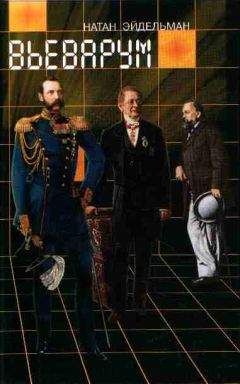Натан Эйдельман - Последний летописец

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Последний летописец"
Описание и краткое содержание "Последний летописец" читать бесплатно онлайн.
„Карамзин есть первый наш историк и последний летописец. Своею критикой он принадлежит истории; простодушием и апофегмами хронике“ — А. С. Пушкин.
Книга посвящена известному русскому писателю, историку и общественному деятелю Н. М. Карамзину и его главному труду — „Истории Государства Российского“. Живо воссоздана эпоха Карамзина, его личность, истоки его труда, трудности и противоречия, друзья и враги, помощники и читатели. Показана многообразная борьба мнений вокруг его „Истории…“, ее необычная роль для русского общества, новый интерес к ней в наши дни. Привлечены малоизвестные и новые архивные материалы.
Издание иллюстрировано.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
200 лет было тому старику, которому удивлялся Карамзин перед смертью… Два века — особенно последние два — это очень много (столько же, сколько от нас до конца XXII столетия).
Автор „Истории Государства Российского — человек астрономически далекой эпохи, чей язык и убеждения считались глубокой стариной уже в 1840-х годах!
Но чудеса: статистика научных и литературных работ ясно показывает, что за последнее двадцатилетие (после многолетнего спада с конца XIX века почти до наших дней) количество книг, статей, эссе, публикаций о Карамзине явно растет.
С громким успехом „Бедная Лиза“ явилась на сцену одного из лучших театров страны, Большого Драматического в Ленинграде.
„Письма русского путешественника“, в советское время печатавшиеся чаще всего в отрывках, в хрестоматиях, выходят в 1980 и 1982 годах (и сверх того, ожидаются в „Литературных памятниках“). Но сколько сетований, что их трудно достать при тираже в сотни раз больше первого издания. И, разумеется, предполагаемое советское переиздание „Истории Государства Российского“ разойдется мгновенно, хотя тираж будет, наверное, поболее всех дореволюционных, взятых вместе.
Значит, есть общественная потребность в книгах двухсотлетнего автора. Пусть притом — и мода, поверхностное любопытство, но это ведь побочные дети спроса настоящего! Отчего же?
Нелегко ответить, но все же попытаемся…
Карамзин — виднейший деятель своей эпохи, реформатор языка, один из отцов русского сентиментализма, историк, публицист, автор стихов, прозы, на которых воспитывались поколения. Все это достаточно для того, чтобы изучать, уважать, признавать; но недостаточно, чтобы полюбить — в литературе, в себе самих, а не в мире прадедов.
Кажется, две черты биографии и творчества Карамзина делают его одним из наших собеседников.
Историк-художник.
Над этим посмеивались уже в 1820-х, от этого позже старались уйти в научную сторону, но именно этого, кажется, не хватает полтора века спустя!
Пушкинское — „Последний летописец“ означало, что больше летописцев не будет; век другой, взгляд иной: история идет своим путем, художественная литература своим, изредка пересекаясь, но в общем обособляясь. Лермонтов, Толстой, Булгаков увлечены прошлым, но сочиняют поэмы, повести, романы; Ключевский, Тарле обладают художественным даром, но все-таки прежде всего ученые, избегающие такого совмещения науки и „летописи“, какое было в „Истории Государства Российского“.
В самом деле, Карамзин-историк предлагал одновременно два способа познавать прошлое; один — научный, объективный: новые факты, понятия, закономерности; другой — художественный, субъективный. Историограф как будто спрашивал, не следует ли — очень осторожно, тонко, умело, не всегда, а только в необходимых случаях — эту субъективность… увеличивать? Формула „чем субъективнее, тем объективнее“ выглядит антинаучной; и такой она и является у легковесной посредственности. Однако если речь идет о субъективности талантливого историка-художника, это совсем другое. Он своей личностью, духом, дарованием так объединяет рассыпанные факты, так заполняет „пустоты“, что создает важную, ценную модель общего хода событий… Было замечено, к примеру, что, толкуя о Грозном, о гибели царевича Дмитрия в Угличе, Карамзин ведет почти „репортаж“ событий, постоянно присоединяясь к древнему летописцу, очевидцу происшествий. Историк, вместо того, чтобы разобрать, столкнуть разные версии и вывести наиболее вероятную (как это сделало бы большинство позднейших ученых), передает случившееся в XVI веке, как будто он сам всему свидетель, а разные точки зрения „отодвигает“ во вторую часть тома, в примечания, главное — не раздробить цельного, горячего описания тех событий…
Да, при этом как будто отступает исторический анализ, подобному историку меньше можно верить в частностях, но зато схвачено нечто для Карамзина более важное — дух целого, летописная атмосфера прошлого.
Достижения послекарамзинской историографии огромны: „История человечества уже перестала казаться нелепым клубком бессмысленных насилий… она, напротив, предстала как процесс развития самого человечества, и задача мышления свелась теперь к тому, чтобы проследить последовательные ступени этого процесса среди всех его блужданий и доказать внутреннюю его закономерность среди всех кажущихся случайностей“. (Энгельс).
Вскоре после кончины Карамзина его знаменитый (и уже упоминавшийся) коллега Леопольд Ранке произнесет формулу, которая на много лет станет ответом на вопрос — к чему должен стремиться историк? К тому, чтобы узнать — „как собственно было на самом деле“. Просто ясно. Карамзин бы согласился. Пушкин — тоже (хотя и призадумался бы).
Как, собственно, было на самом деле. С тех пор много воды утекло и много книг написано. Все громче и чаще звучат возражения против формулы Ранке. Одно из них (М. Н. Покровского) казалось чересчур дерзким: „История есть политика, опрокинутая в прошлое“. Другая „редакция“ этой же формулы (Б. Кроче) более гибкая: „Всякая история есть в определенном смысле современная история“.
Речь идет, снова повторяем, о субъективно честном, добросовестном историке. Но и кристально чистый исследователь — все равно человек своего времени, и это неминуемо скажется на изображении им любого минувшего столетия и тысячелетия; скажется независимо от любых стараний мастера, чтобы ничего подобного не было; большой знаток этой проблемы английский историк Коллингвуд (чей труд „Идея истории“ недавно переведен на русский язык) замечает, что, во-первых, всякий историк ограничен дошедшими из прошлого (а еще более — не дошедшими!) фактами, памятниками; из того, что осталось, он и строит „модель“ нужного ему исторического явления. Однако всегда ли из мира предков доходит к нам наиболее существенное, типичное? Во-вторых, отбирая из миллиона фактов, скажем, тысячу или сотню, историк (Карамзин, Ранке — кто угодно) руководствуется своими критериями — что важно, а что нет. Чем научнее, объективнее критерий, тем лучше. Карамзин, как уже говорилось, куда меньше, чем более поздние историки, пишет об экономических вопросах, значении народного сопротивления и т. п. Отчего же? Да оттого, что совершенно искренне — в духе своего воспитания, положения, мировоззрения — считает, что это не так уж важно; мы сегодня с ним не согласны, но сами, в свою очередь, возможно упускаем, откладываем в сторону как второстепенное нечто такое, о чем в XXII, XXIX веках будут толковать куда больше!
Итак, фактов мало, отбор их зависит от позиции наблюдателя; в-третьих, истолкование фактов, логические выводы — это ведь тоже модель, где пустоты между „островками известного“ заполняются логикой историка, но не всегда — его героев (Карамзина, как мы знаем, современники упрекали, что древние князья, монахи, воины у него уж слишком похожи на граждан XVIII–XIX столетий).
Итак, к исторической истине стремиться должно, получить ее можно, но не следует и сегодня забывать, что мы восстанавливаем целостную картину прошлого по частным, порою случайным деталям. Эта операция по природе своей не только научная, объективная, но и в немалой степени художественная, субъективная. А если так, значит, и сегодня, на высоком витке историографической спирали, можно и должно воспользоваться опытом старых мастеров, разумеется, не в буквальном, наивном смысле.
Сегодняшний ученый, не отказываясь ни от одного научного завоевания, может, полагаем, найти массу ценного, поучительного в методе Карамзина и ему подобных первых историков и „последних летописцев“. К тому же, стремясь к строгой, объективной картине, специалисты новейшего времени, вооруженные мощными научными методами, кое-что и утратили по сравнению со старыми историографами. Открылось, например, что современный ученый куда лучше, легче „управляется“ с большими массами людей, нежели с отдельными личностями: класс, сословие, нация — закономерности подобных общественных категорий, кажется, более поддаются объективному анализу, нежели биография, внутреннее развитие одного исторического лица. Между тем Карамзин и другие историки-художники как раз достигали больших высот в „портретировании“ своих героев, в анализе их намерений и действий.
Было бы очень легкомысленным просто отмахнуться от „художественного“ метода в истории, как связанного с выдумкой, домыслом; не попытавшись разобраться, как же при этом достигались существенные результаты при воссоздании ушедших веков? К тому же ряд знаменитых исследователей XIX–XX веков, отрицая старинный субъективизм во имя высшей объективности, практически в своей работе ведь все равно пользуются художественно-обобщающими характеристиками.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Последний летописец"
Книги похожие на "Последний летописец" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Натан Эйдельман - Последний летописец"
Отзывы читателей о книге "Последний летописец", комментарии и мнения людей о произведении.