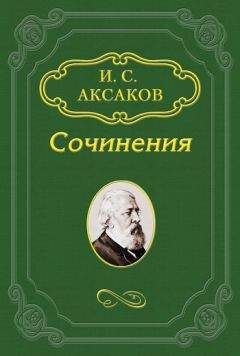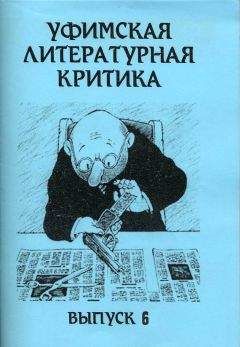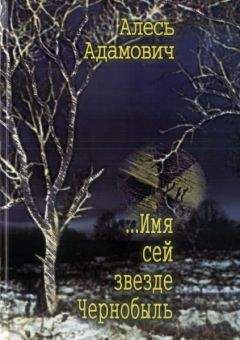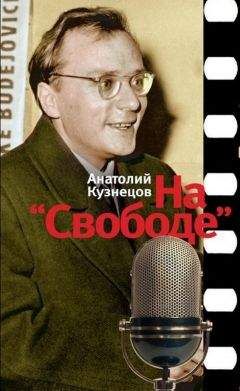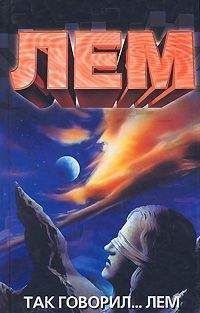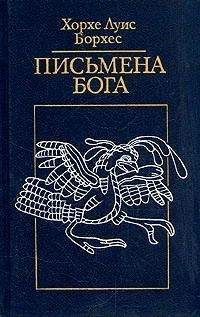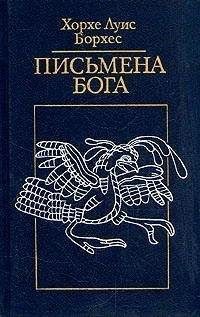Георгий Адамович - Литературные беседы. Книга первая ("Звено": 1923-1926)

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Литературные беседы. Книга первая ("Звено": 1923-1926)"
Описание и краткое содержание "Литературные беседы. Книга первая ("Звено": 1923-1926)" читать бесплатно онлайн.
В двухтомнике впервые собраны все ранние работ известного эмигрантского поэта, эссеиста и критика Георгия Викторовича Адамовича (1892-1972), публиковавшиеся в парижском журнале «Звено» с 1923 по 1928 год под рубрикой «Литературные беседы».
Этот особый, неповторимый жанр блистательной критической прозы Адамовича составил целую эпоху в истории литературы русского зарубежья и сразу же задал ей тон, создал атмосферу для ее существования. Собранные вместе, «Литературные беседы» дают широкую панораму как русской литературы по обе стороны баррикад, так и иностранных литератур в отражении тонкого, глубокого и непредвзятого критика.
Книга снабжена вступительной статьей, обстоятельными комментариями, именным указателем и приложениями.
Для самого широкого круга читателей.
Теперь, перечитывая все им написанное, я думаю все-таки проза Кузмина долговечнее его стихов. Кузмин ввел несомненное новшество в повествование: он додумался записывать человеческую речь не в упорядоченном и сглаженном виде, а во всей ее бессвязности. Оттого его диалоги кажутся необычайно живыми. Перечтите «Прерванную повесть», в прозаической ее редакции: эти обрывки слов, обрывки мыслей, на лету схваченных, куски разговоров передают самую ткань жизни. Так действительно говорят люди, насилуя грамматику и логику. Но дословная передача бесформенной живой речи есть прием бедный и скудный, ничего не обещающий. Диалогический стиль Пильняка и большинства «новых» произошел отчасти отсюда. К настоящему, — без кавычек высокому — искусству это относится приблизительно так, как цветная фотография к живописи.
Позднее Кузмин стал сдержаннее в этом отношении. Однако диалоги в его повестях и рассказах остались особенно живыми, и в этом их прелесть. Но Кузмин редко справляется с общим замыслом, а большей частью и замысла у него никакого нет. Просто анекдот или житейская мелкая хроника. Исключением мне кажется «Покойница в доме» — стройная и ясная повесть. Почти все его вещи, в особенности крупные, расходятся по швам, распадаются на куски. Несколько очень зорко подмеченных подробностей, два-три очаровательных разговора, тревожно-любовных или насмешливых — и больше ничего. Кузмин не бытописатель, конечно, и не хочет им быть. Нельзя от него требовать широких картин. Но даже и одного живого человека он создать не в состоянии: общее всегда от него ускользает. С птичьего полета он ни на что не взглянул.
В стихах Кузмина много беллетристически удачных строк: точные, отчетливые и чистые образы. Но целое мертво. Дух музыки совершенно отсутствует в этой поэзии. Лучшие строчки остроумны и находчивы, не более. Но ни одну из них не повторишь, ни одну не запомнишь. Единой темы у Кузмина нет. Книги его — только сборники разных стихотворений, ничем не объединенных. Поэта нет. Не «терпит суеты служенье Муз». Не слышится ли эта навевающая скуку суетливость в какофонии первых же строк первой книги Кузмина:
Где слог найду, чтоб описать прогулку,
Шабли во льду, поджаренную булку?
Ранние стихи Кузмина все же непритязательны и милы. Конечно, одной ахматовской строкой можно отравить всю эту гладковатую лирику, но как стихи на случай, как неопасторальный жанр, эти вещи имеют довольно много достоинств. Я говорю о стихах Кузмина, писанных до войны.
Но что такое кузминские стихи последних лет, «Нездешние вечера» и «Параболы»!
Надо бы давно понять, что настоящий поэт, даже состарившись и одряхлев, до последнего дня остается поэтом, дарование слабеет количественно, а не качественно. Это подтверждают сотни примеров. Нельзя забыть последние стихи Державина или то, что пишет теперь ослабевающий, будто еле водящий пером Сологуб.
Последние книги Кузмина обнаруживают такую растерянность и такую пустоту, которых трудно было ждать. Кажется, что Кузмин опрокинут и раздавлен нашим бурным временем. Он пытается кричать в тон времени, но его не слышно. Немного есть чтения более тяжелого, чем эти последние сборники: взвинченный и лживый пафос, детская игра грубейшими аллитерациями, детское щеголяние подчеркнуто реалистическими образами, рядом с намеренно туманными, полная распущенность, «потерянность» языка и чувств. Кроме двух–трех стихотворений, звучащих как жалоба или бессильное признание, все в этих грубо-фальшивых книгах есть сплошная мишура.
Кузмин всегда был склонен поддаваться влияниям. Теперь его губит эпоха — не лучше и не хуже других, — но требующая не тех сил и, главное, не той природы. Когда-то он вел долгие беседы с Вячеславом Ивановым. Отсвет этих бесед лежит на «Осенних озерах», — и это лучшая его книга.
Из-за любви к ушедшим годам, ради сентиментальных воспоминаний, мне хотелось бы закончить заметку о Кузмине добрым словом. Приведу короткое стихотворение:
Я тихо от тебя иду,
А ты остался на балконе.
«Коль славен наш Господь в Сионе»
Трубят в Таврическом саду.
Я вижу бледную звезду
На теплом, светлом небосклоне,
И слов я лучше не найду,
Когда я от тебя иду,
Как «славен наш Господь в Сионе».
Кузмин был, вероятно, очень влюблен, когда писал эти стихи: это и подсказало ему такие простые, взволнованные и волнующие слова.
Литературные заметки
Есть внутренняя правда в прекрасном обычае говорить об умерших людях одно лишь хорошее, находя и подчеркивая незамечаемые прежде заслуги. Смерть примиряет. Она по-новому все освящает, она довершает то, что вчера еще казалось беспорядочным и нестройным, дописывает последнее слово, иногда самое необходимое.
О Брюсове много спорили и писали за эту четверть века. В последние годы его обаяние совсем померкло. К суждениям его не прислушивались, стихов его не читали.
Но едва кто-либо из друзей русской поэзии без волнения узнал о его смерти. В нашей литературе Брюсов был единственным примером человека, который поэзии отдал всю жизнь и все силы, никогда ей не изменял, ни во что, кроме нее, не верил. Его современники заигрывали то с мистикой, то с философией, отвлекались от своего дела, о другом думали, о другом говорили, и в этой разноголосице один лишь Брюсов был верен «ремеслу» поэта. Вокруг этого ремесла и разгорелся, в сущности, спор о Брюсове. Холодным и расчетливым делателем стихов, а не поэтом, Брюсова назвали не по самым стихам его, а по его суждениям о них. Айхенвальдовские доводы, давшие тон всей антибрюсовской кампании, несостоятельны в той части, где Айхенвальд отрицает всякое дарование у Брюсова. Дарование это слишком велико и слишком очевидно.
Успех Айхенвальд имел только потому, что подкладкой его выпадов – правда тщательно скрытой! – было привычно дилетантское отношение к поэзии как к «чистому вдохновению», без ума и без воли, культ «прости Господи, глуповатой» поэзии, соловьиных трелей и фето-случевской расплывчатости. В противобрюсовских тенденциях русской критики сказался бунт против слишком «трудной» поэзии, недостаточно подслащенной. Брюсов говорил о ясном сознании и о равновесии, ему противопоставляли бред и чувствительность, эти суррогаты вдохновения. Вдохновения же Брюсов не отрицал и не обесценивал, он хотел только, чтобы те, кто получили от Бога этот дар, не умаляли его, не искажали негодными средствами выражения. Поэтому он говорил о технике, учил работать над стихами и думать о них. Все это достаточно просто и бесспорно. Немного есть русских поэтов, у которых не было бы оговорок по отношению к Брюсову, которые бы целиком любили его поэзию и во всем были бы с ним согласны. Но это «домашний спор», в который нельзя вмешивать посторонних. Если на Брюсова нападают извне, нельзя сомневаться, на чью сторону надо стать. При чтении Айхенвальда и его продолжателей чувствуешь, что дело не в споре двух писателей, случайно несошедшихся, а в поэзии и в антипоэзии, во взглядах мастера и профана.
Материал вдохновенья, плоть его, упроченную и упорядоченную, Брюсов оставляет в наследство русским поэтам. Мне уже слышатся недоумения: «Да нужно ли это? не вредно ли это? к чему эти общедоступные усовершенствования?» Это вполне праздные сужденьица. Никто никого не собирается сделать поэтом, никто не говорит, что этому можно выучить. Но должна поэтическая традиция, которой до Брюсова у нас не было[43] и которую Брюсов в зародыше оставляет. Кто «верит» в поэзию или даже просто любит ее, должен быть Брюсову за это благодарен. Достаточно сравнить стихи одного уровня, до – и послебрюсовские, 1890 и 1910 года, например. Общее повышение несомненно. Из современников Брюсова никто не имел и десятой доли его значения. Сыграть свою роль он мог потому, что не только его суждения были убедительны, но и стихи он писал, как в то время никто другой.
2.
Домыслы о «преодоленной бездарности» Брюсова основаны все на том же отношении к поэзии как к импровизации. Говорить о них серьезно нельзя. Вспомните первые вещи Брюсова. Это было начало девяностых годов, время окончательного изнеможения «старой» поэзии и декадентского «Sturm und Drang».
Брюсов был не один. Но его соратники были обвинителями только идеологически, в сущности же творчества они были вполне еще связаны с тем, разрушали и опрокидывали. Брюсов тогда писал:
Тень несозданных созданий
Колыхается во сне,
Словно лопасти латаний
На эмалевой стене…
Над этим много смеялись. Но в этих детских строчках можно было бы расслышать настоящий голос, упоение звуком и словом, которого давно уже у нас не было.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Литературные беседы. Книга первая ("Звено": 1923-1926)"
Книги похожие на "Литературные беседы. Книга первая ("Звено": 1923-1926)" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Георгий Адамович - Литературные беседы. Книга первая ("Звено": 1923-1926)"
Отзывы читателей о книге "Литературные беседы. Книга первая ("Звено": 1923-1926)", комментарии и мнения людей о произведении.