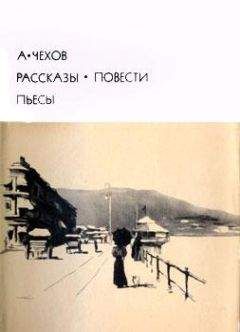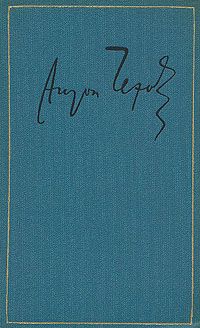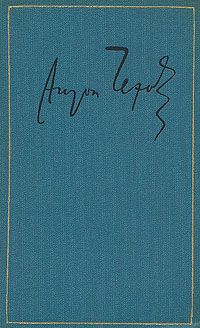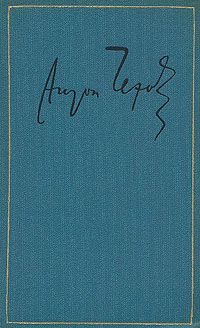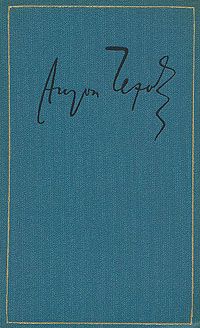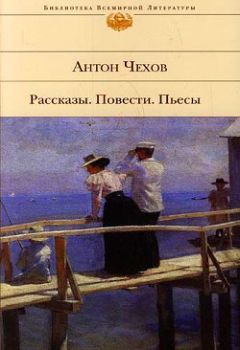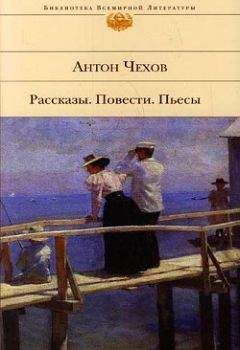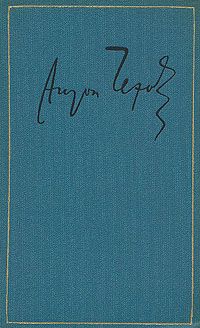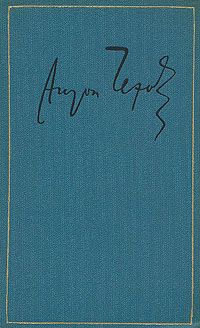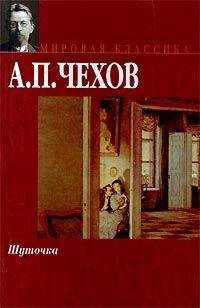Антон Чехов - Рассказы. Повести. 1898-1903
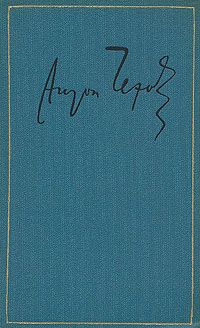
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Рассказы. Повести. 1898-1903"
Описание и краткое содержание "Рассказы. Повести. 1898-1903" читать бесплатно онлайн.
(рассказ)
В противоположность Скабичевскому, который извлекает из чеховского рассказа экономические истины и использует художественное произведение в иллюстративных целях, А. Л. Волынский (Флексер) сосредоточивает внимание не на сфере изображения, а на настроении рассказа, придавая ему символический смысл (А. Л. Волынский. Борьба за идеализм. Критические статьи. СПб., 1900). «„Случай из практики“, – пишет он, – вещь недоделанная, местами смутная, как сон, и, тем не менее, преисполненная благодатных для искусства настроений» (стр. 340). Ценность этого произведения, с его точки зрения, несмотря на то, что «художественная сторона рассказа не отличается особенно выдающимися достоинствами», заключается в идее грядущего духовного воскресения, противопоставленного жуткому кошмару реальной современной жизни: «Можно сказать, что весь рассказ – с его ночным мраком, с жутко светящимися фабричными окнами и расплывающимися кошмарами богатой молодой девушки, – проникнут скрытою мечтою о каком-то воскресном утре, о каком-то новом возрождении или, вернее сказать, о духовном перерождении людей <…> Воскресное утро – какой живой символ, вылившийся из встревоженной души чуткого современного человека» (стр. 340–341).
Почти все прочие критики, в отличие от Скабичевского и Волынского, пытались поставить «Случай из практики» в связь с другими произведениями Чехова, видя в рассказе признаки нового периода его творчества. Оценивая это по-разному, они довольно близко сходились друг с другом в определении сущности перемены в творческой манере Чехова. «Замечается и еще одна особенность, – пишет А. И. Богданович, – совершенно новая для г. Чехова, который отличался всегда поразительной объективностью в своих произведениях, за что нередко его упрекали в равнодушии и беспринципности. Теперь же, как наверное уже заметили читатели в приведенных выдержках, г. Чехов не может удержаться, чтобы местами не высказаться, вкладывая в реплики героев задушевные свои мысли и взгляды» (А. Б. Критические заметки. – «Мир божий», 1898, № 10, отд. II, стр. 9). Богданович считает, что Чехов уже «не может оставаться только художником и помимо воли становится моралистом и обличителем <…> В нем как бы назревает какой-то перелом, прорывается нечто, сближающее его с другими нашими великими художниками, которые никогда не могли удержаться на чисто объективном творчестве и кончали проповедью…» (там же).
И. Джонсон (И. В. Иванов) называет этот процесс превращением «прежнего созерцателя в человека с сердцем, полным боли и скорби» (И. Джонсон. В поисках за правдой и смыслом жизни. (А. П. Чехов). – «Образование», 1903, № 12, стр. 26). Ранее «бесстрастное художническое созерцание жизни» соединялось в нем с сомнением в возможности «вмешательства в стихийный ход исторического процесса», «какой бы то ни было плодотворной борьбы» (стр. 21 и 26). Поэтому Чехов относился «к наблюденному им колоссальному отрицательному факту: отсутствию разума, правды и счастья в жизни – сперва только с недоумением, сохраняя почти научное спокойствие, как к любопытному, но чуждому, не задевающему самого наблюдателя явлению» (стр. 24). Теперь же «сама жизнь <…> приводила в конце концов к убеждению, что нелепо отождествлять социальную эволюцию с естественным процессом, что личность сознательно и активно должна участвовать в этой эволюции, должна воздействовать на нее в духе и направлении определенных идеалов… Такое убеждение приводило и к вере, что жизнь на самом деле и будет перестроена по идеалам разума и правды. И эта вера стала, по-видимому, настолько укрепляться в душе Чехова, что, например, даже созерцание таких картин неразумия и неправды, как нарисованная им в „Случае из практики“ <…> не подрывало ее» (стр. 30–31).
О проявлении глубоко гуманной основы чеховского пессимизма писал В. Мирский («Наша литература. (О некоторых мнениях г. Подарского об А. П. Чехове)». – «Журнал для всех», 1902, № 3). «Чехов берет жизнь в самых разнообразных ее проявлениях и выставляет на вид весь ужас ее бессмыслицы и вместе с тем весь ужас страдания униженных и обремененных. Напомню хотя бы три его рассказа: „Случай из практики“, „По делам службы“ и „В овраге“» (стлб. 361); «этот пессимизм не от подагры, не от несварения желудка, а, думается мне, – от излишней требовательности к человеческой жизни <…> Этот пессимизм связан с жаждой простора, с тоской по человеку, которому отведено только три аршина, с жалостью к этому усталому, измученному собрату. О! с этим еще можно жить» (стлб. 363–364).
В. Альбов считает, что поворот, обозначившийся в творчестве Чехова в рассказе «Студент», «еще лучше выяснится нам из рассказа „Случай из практики“, который и может быть понят только с высоты этого мировоззрения <…> Та действительность, которая давила его своею пошлостью и из которой он долго не мог выбраться, это только видимая поверхность жизни, грязная, мутная накипь <…> Слой за слоем разбирая эту накипь, пробираясь мимо мыслей, чувств, настроений людей, навеянных этою нечистью, он увидел, наконец, чистый, кристальный родник жизни. Он понял, что правда, справедливость, красота – вот что скрывается в глубоких тайниках жизни, вот чем держится жизнь и в чем спасение всего народа» (В. Альбов. Два момента в развитии творчества Антона Павловича Чехова. (Критический очерк). – «Мир божий», 1903, № 1, стр. 106–107.) Перемена вызывает различное отношение, она терминологически обозначается по-разному, но зафиксирована всеми.
Резко отрицательно оценил эту перемену критик газеты «Московский листок», истолковав ее как переход Чехова от «объективного» творчества к открытой тенденциозности: «Тяжелое впечатление производит этот рассказ <…> Много лет подряд Чехова обвиняли в том, что он писал, как поет соловей: закрывая глаза, то есть не желая знать идейной стороны явлений. Чехов обладал тогда величайшим качеством, какое только может быть у художников – он умел быть удивительно объективным в своих произведениях, умел оставаться чистым художником, изображая даже наиболее нечистые, наиболее жизненные страницы окружающей его действительности <…> в последнее время он уже стал изменять коренным своим заветам, начинает влагать в произведения свои не только душу живу, но и предвзятую, со стороны навязанную мысль, смоченную гражданскими слезами» (Н. Р. Литературное обозрение. – «Московский листок», 1899, прибавление к № 10, № 2, 10 января, стр. 13).
Эволюция Чехова в отзыве «Московского листка» объяснена влиянием критики, требующей от писателя «затасканных мотивов», а также влиянием редакторов «Русской мысли». «В результате получилось то, чего и следовало ожидать: „беспринципные“ произведения первого периода являются, без сомнения, несравненно более крупным вкладом в сокровищницу русской литературы, чем последние чеховские дары…» Видя в монологе Тригорина из второго акта «Чайки» «подлинную трагедию писательской души», и притом автобиографическую, критик «Московского листка» считает, что призвание Чехова заключалось в изображении поэзии жизни, в то время как по чувству писательского долга он перешел к «гражданским» темам. «„Случай из практики“ не представляет интереса по содержанию, не являет его и по форме», несмотря на «ряд очень хорошо написанных, полных поэзии строк» (стр. 14).
М. Столяров поставил «Случай из практики» в ряд с другими произведениями «позднейшего времени», такими, как «Ионыч», где Чехов продолжает изображать «различные эпизоды из жизни, исполненные того же холодного формализма» (Мих. Столяров. Новейшие русские новеллисты. Гаршин. Короленко. Чехов. Горький. Киев – Петербург – Харьков, 1901, стр. 58 и 46). «Жизнь по шаблонам парализует ум, чувство и волю, вследствие чего между людьми устанавливаются какие-то мертвые отношения» (стр. 46). Этот характер отношений проявляется, по мнению Столярова, вначале, в отношении Королева к своей пациентке, «а между тем, – восклицает критик, – иногда одно живое слово действует на больного современного человека – читай, измученного физически и нравственно – действительнее самых целебных лекарств, самых искусных в медицинском мире врачей» (стр. 66).
Некоторые особенности чеховской поэтики также вызвали критические замечания. Развитие действия в «Случае из практики» вызвало упрек И. Н. Игнатова в том, что рассказ фрагментарен, а конечные выводы Королева необоснованны, и читатель, таким образом, не может уловить связи между впечатлениями героя и его суждениями: «Нам кажется, что заключительные мысли доктора мало гармонируют с тем впечатлением, которое он вынес из своего путешествия. Где элементы, развитие которых может повести „к светлой и радостной жизни“, если только наблюдения его справедливы? Между посылками и заключениями существует какой-то пропуск, lacune, которую читатель не может заполнить сам ввиду отсутствия необходимых данных» (И-т. Новости литературы и журналистики. – «Русские ведомости», 1898, № 289, 19 декабря).
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Рассказы. Повести. 1898-1903"
Книги похожие на "Рассказы. Повести. 1898-1903" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Антон Чехов - Рассказы. Повести. 1898-1903"
Отзывы читателей о книге "Рассказы. Повести. 1898-1903", комментарии и мнения людей о произведении.