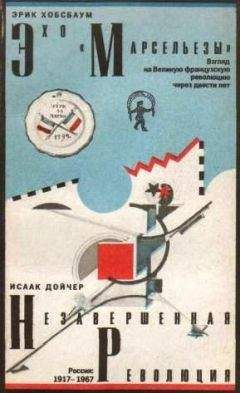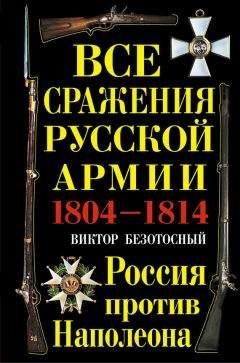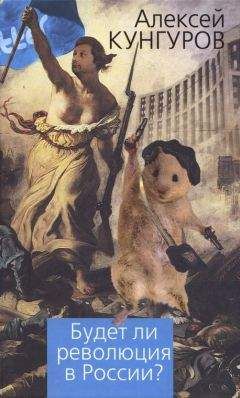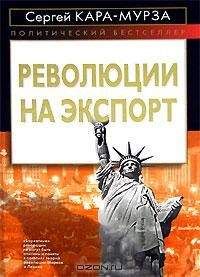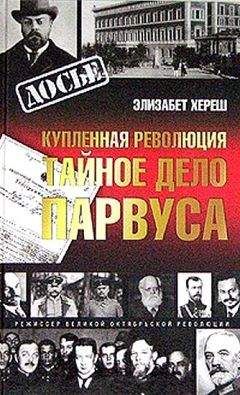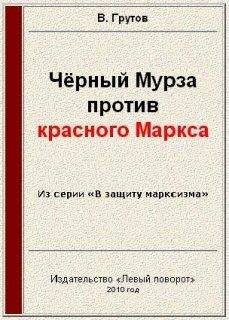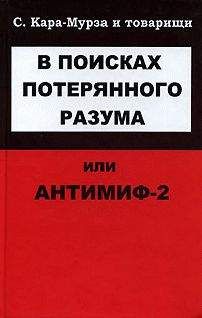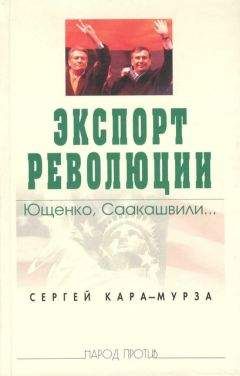Сергей Кара-Мурза - Маркс против русской революции
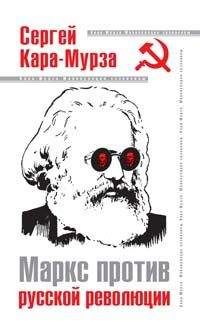
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Маркс против русской революции"
Описание и краткое содержание "Маркс против русской революции" читать бесплатно онлайн.
Новая сенсационная книга от автора бестселлеров "Советская цивилизация" и "Манипуляция сознанием"!
Свежий взгляд на нашу историю!
Глубокий анализ революционных событий!
Опровержение устоявшихся догм!
Русская революция совершалась не "по Марксу", а во многом вопреки ему.
Русская народная революция нарушила главные марксистские догмы.
Русская народная революция противоречила русофобским идеям Маркса о "реакционности славян" и особенно русских.
И все эксцессы 1917 года, вся кровь и грязь Гражданской войны случились именно потому, что русскую народную революцию попытались втиснуть в тесные рамки ортодоксального марксизма…
В трудах Маркса и Энгельса выражена радикальная антикрестьянская установка. Крестьянство как сословие представлено носителем консервативного и даже реакционного мировоззрения, важным мотивом которого является стремление «остановить колесо прогресса».
В социальном, культурном, мировоззренческом отношении крестьяне и рабочие, которые представляли собой в конце ХIХ века более 90% жителей России, являлись единым народом, не разделенным сословными и классовыми перегородками и враждой. Этот единый народ рабочих и крестьян и был гражданским обществом России — ядром всего общества, составленного из свободных граждан, имеющих сходные идеалы и интересы. Оно было отлично от западного гражданского общества тем, что представляло из себя Республику трудящихся , в то время как ядро западного общества представляло собой Республику собственников .
Враждебное отношение к крестьянам автоматически превращалось у Маркса и Энгельса в русофобию и окрашивало их отношение к революционному процессу в России. В свою очередь, крестьяне категорически не могли принять того образа прогрессивного общественного развития, какой им предлагал «Коммунистический Манифест»: «Буржуазия подчинила деревню господству города. Она создала огромные города, в высокой степени увеличила численность городского населения по сравнению с сельским и вырвала таким образом значительную часть населения из идиотизма деревенской жизни. Так же как деревню она сделала зависимой от города, так варварские и полуварварские страны она поставила в зависимость от стран цивилизованных, крестьянские народы — от буржуазных народов, Восток — от Запада» [41].
Здесь крестьянство, крестьянские народы и Восток представлены как собирательный образ врага, который должен быть побежден и подчинен буржуазным Западом. А революция крестьянского народа, то есть, по сути, его Отечественная война против этого нашествия, объявляется Марксом реакционной.
Отвергая само право крестьянства на революционное сопротивление капитализму, Энгельс создает ложное представление о культуре крестьянства как сословия. Вот какие идеологические штампы применяет Энгельс, чтобы охарактеризовать русского крестьянина: «Масса русского народа, крестьяне, столетиями, поколение за поколением, тупо влачили свое существование в трясине какого-то внеисторического прозябания» [88, с. 568].
Из чего Энгельс вывел этот примитивный образ? Из русских сказок, песен, из организации труда и быта великорусского пахаря, из истории освоения русскими крестьянами Сибири, Аляски и Калифорнии? Нет, здесь просто соединение социального и этнического расизма. На деле русское крестьянство «вовсе не влачило тупо свое существование», оно обладало очень большой подвижностью и «пользовалось большей свободой, чем народ любого хорошо организованного государства в Западной Европе» (см. [168]). Крепостничеством было охвачено менее половины русских крестьян, и к тому же около половины крепостных были оброчными. Они жили, где хотели, и часто становились более богатыми, чем их владельцы-помещики; большинство русских купцов и промышленников вышло именно из рядов оброчных крестьян.
Но Энгельс вообще не приемлет крестьянство как культурный тип человека. В своей большой работе «Положение рабочего класса в Англии» Энгельс отрицает ранг человека даже у тех категорий рабочего класса, которые живут в сельской местности и сохраняют некоторые черты крестьянского образа жизни (например, у английских ткачей-надомников).
Энгельс пишет о них: «Это были большей частью люди сильные, крепкие, своим телосложением мало или даже вовсе не отличавшиеся от окрестных крестьян… Легко себе представить, каков был моральный и интеллектуальный уровень этого класса. Отрезанные от городов, где они никогда не бывали, так как пряжу и ткань они сдавали разъездным агентам, от которых получали заработную плату…, они в моральном и интеллектуальном отношении стояли на уровне крестьян, с которыми они большей частью были и непосредственно связаны благодаря своему участку арендованной земли… Они были людьми «почтенными» и хорошими отцами семейств, вели нравственную жизнь, поскольку у них отсутствовали и поводы к безнравственной жизни… Одним словом, тогдашние английские промышленные рабочие жили и мыслили так, как живут еще и теперь кое-где в Германии, замкнуто и обособленно, без духовной деятельности и без резких колебаний в условиях своей жизни… В духовном отношении они были мертвы, жили только своими мелкими частными интересами, своим ткацким станком и садиком, и не знали ничего о том мощном движении, которым за пределами их деревень было охвачено все человечество… Они и не были людьми, а были лишь рабочими машинами на службе немногих аристократов, которые до того времени вершили историю» [45, с. 242].
Когда же речь идет о русских крестьянах, то Маркс приходит к гротескному, с точки зрения социологии, прославлению турецкого крестьянства как якобы гораздо более прогрессивного, нежели крестьянство русское. Он писал В. Либкнехту (4 февраля 1878 г.), объясняя свою позицию в назревающей русско-турецкой войне: «Мы самым решительным образом становимся на сторону турок по двум причинам: 1) Потому, что мы изучали турецкого крестьянина — следовательно, турецкую народную массу — и видим в его лице безусловно одного из самых дельных и самых нравственных представителей крестьянства в Европе» [140, с. 246].
Установки марксизма в отношении крестьянства сильно повлияли на сознание левой интеллигенции в России и укрепили позиции западников, особенно после дискредитации народников. Как вспоминает меньшевичка Лидия Дан, сестра Мартова, в 90-е годы ХIХ в. для студента стало «почти неприличным» не стать марксистом. Анализируя воспоминания Л. Дан о самой себе, своих братьях и сестрах, Л. Хеймсон делает вывод об установках этого типа меньшевиков «из санкт-петербургских кругов ассимилированной высокой еврейской культуры». Он выделяет такие позиции: «отношение превосходства к крестьянству» (при одновременном незнании его и деревни вообще), их глубоко городской взгляд на мир…, их «книжный» характер («мы мало знали о жизни, у нас уже был сложившийся взгляд, заимствованный из книг») и превышающая все остальное их интеллектуальная элитарность».
Л. Хеймсон подчеркивает особую роль, которую сыграли в формировании мировоззрения меньшевистской молодежи марксистские произведения Г.В. Плеханова: «В этих работах молодежь, пришедшая в социал-демократию, нашла опору для своего бескомпромиссного отождествления с Западом и для своего не менее бескомпромиссного отвержения любых форм российской самобытности» [169].[44]
Но и в среде большевиков ленинская концепция союза рабочего класса и крестьянства породила напряженность, чреватую расколами. Это большая тема, здесь приведу лишь пару примеров из частных проявлений этого противостояния. Так, вопрос об отношении к крестьянству возник в годы НЭПа в сфере культуры. Вот кусочек из письма Горького Бухарину (13 июля 1925 г.): «Надо бы, дорогой товарищ, Вам или Троцкому указать писателям-рабочим на тот факт, что рядом с их работой уже возникает работа писателей-крестьян и что здесь возможен, — даже, пожалуй, неизбежен конфликт двух «направлений». Всякая «цензура» тут была бы лишь вредна и лишь заострила бы идеологию мужикопоклонников и деревнелюбов, но критика — и нещадная — этой идеологии должна быть дана теперь же. Талантливый, трогательный плач Есенина о деревенском рае — не та лирика, которой требует время и его задачи, огромность которых невообразима… Город и деревня должны встать — лоб в лоб. Писатель рабочий обязан понять это» [170].
В том же ключе рассуждает и сам Н.И. Бухарин на I Съезде советских писателей (1934) о поэзии Сергея Есенина. Бухарин признает, что Есенин был певцом социализма и задает вопрос: «Но что это за социализм? Это «социализм» или рай, ибо рай в мужицком творчестве так и представлялся, где нет податей за пашню, где «избы новые, кипарисовым тесом крытые», где «дряхлое время, бродя по лугам, сзывает к мировому столу все племена и народы и обносит их, подавая каждому золотой ковш, сыченою брагой». Этот «социализм» прямо враждебен пролетарскому социализму» [171 с. 257].
Антикрестьянские установки Маркса сохранились и в современном ортодоксальном российском марксизме. Вот наиболее чистые его выразители — А.В. Бузгалин и А.И. Колганов — пишут о советском строе как «мутантном социализме», уроде по сравнению с правильной моделью Маркса. Причина уродства, по их мнению — крестьянский характер русской революции. Они занимают радикально антисоветскую позицию — притом, что считают советский строй адекватным реальности и отвечающим интересам подавляющего большинства населения!
То, что они пишут, мне кажется поразительным: «[Советский строй] в тогдашних условиях оказался вполне жизнеспособен. Более того, он оказался по большому счету адекватен, во-первых, внешней обстановке агрессивной конфронтации с империалистическим окружением. Во-вторых (и это особенно важно!), сталинский государственно-патриархальный «социализм» был в основном приспособлен к социально-культурному генотипу большинства населения тогдашней России — полупатриархального крестьянства, начинающего превращаться в индустриальных рабочих — внизу, чиновничества из средних слоев и тех же крестьян — наверху. Для них сталинское «социалистическое строительство» оказалось социально и культурно близким, оно их не только не ломало (как их ломали реальные ростки социализма), но и давало им возможность социального роста и возвышения» [109, с. 33].
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Маркс против русской революции"
Книги похожие на "Маркс против русской революции" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Сергей Кара-Мурза - Маркс против русской революции"
Отзывы читателей о книге "Маркс против русской революции", комментарии и мнения людей о произведении.