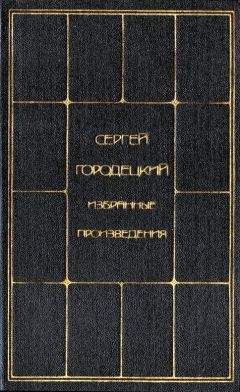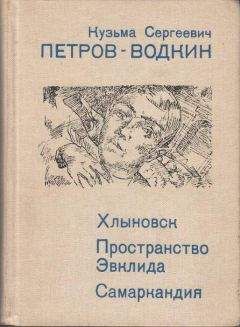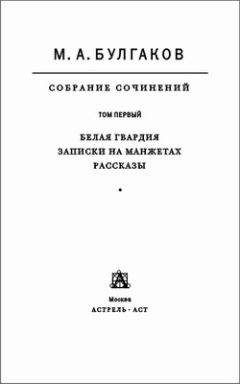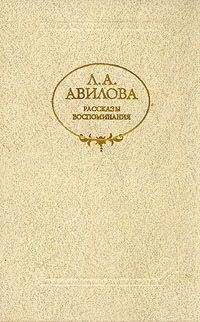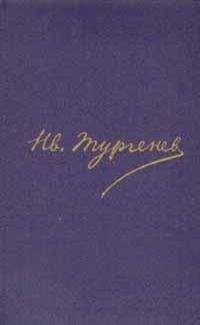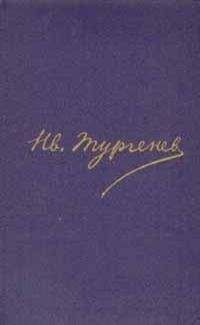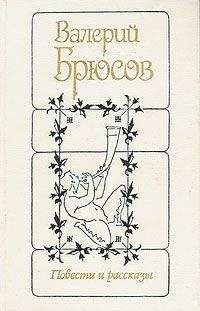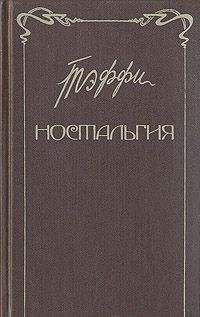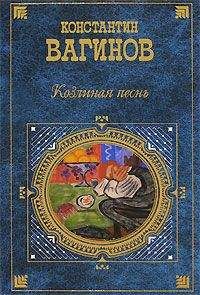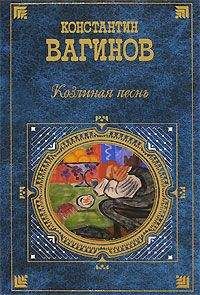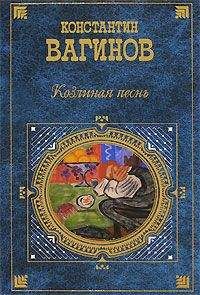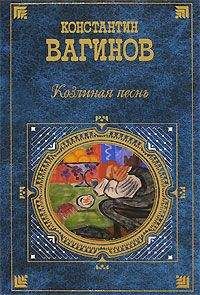Юрий Тынянов - Портреты и встречи (Воспоминания о Тынянове)
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Портреты и встречи (Воспоминания о Тынянове)"
Описание и краткое содержание "Портреты и встречи (Воспоминания о Тынянове)" читать бесплатно онлайн.
Творчество Юрия Тынянова в советской литературе занимает выдающееся место — его исторические романы, повести, рассказы, его статьи, его историко-литературные, теоретические и критические работы, его сценарии и переводы — все это богатое наследие писателя продолжает жить в нашей культуре. В настоящей книге своими воспоминаниями о Тынянове делятся такие известные мастера советской культуры, как П. Антокольский и И. Андроников, И. Эренбург и С. Эйзенштейн, К. Чуковский и К. Федин, Л. Гинзбург и В. Каверин, Г. Козинцев и Н. Степанов, Б. Эйхенбаум и В. Шкловский, а также ученики и соратники по работе.
Можно было думать, что после работы «Архаисты и Пушкин» Тынянов напишет историко-литературную монографию о Кюхельбекере. На деле вышло иначе. Вместо научной монографии в 1925 году появился роман «Кюхля» «повесть о декабристе». Для этого были свои исторические основания, коренившиеся в особенностях нашей эпохи.
В статье о Хлебникове Тынянов говорит: «Новое зрение Хлебникова, язычески и детски смешивавшее малое с большим, не мирилось с тем, что за плотный и тесный язык литературы не попадает самое главное и интимное, что это главное, ежеминутное оттесняется «тарою» литературного языка и объявлено «случайностью». И вот случайное стало для Хлебникова главным элементом искусства». Это сказано не только о Хлебникове, но и о себе, о своей работе. Борясь со своего рода «тарой» историко-литературных схем и понятий, Тынянов пробился к деталям, к «случайностям». В своих теоретических статьях он много и часто говорит о соотношении литературы и быта, о значении «случайных» результатов. Он утверждает, что «быт по своему составу — рудиментарная наука, рудиментарные искусство и техника», что он «кишит рудиментами разных интеллектуальных деятельностей», что он «отличается от науки, искусства и техники методом обращения с ними». Тынянов пишет: «То, что сегодня литературный факт, то назавтра становится простым фактом быта». Эта тема волнует его недаром: путь к большому он видит через малое, путь к закономерному — через «случайное». Он хочет смотреть на историю не сверху вниз, а «вровень»; именно это выражение употребляет он сам: «Хлебников смотрит на вещи, как на явления, взглядом ученого, проникающего в процесс и протекание — вровень». Так смотрит на историю и Тынянов. Он продолжает о Хлебникове: «У него нет вещей «вообще» у него есть частная вещь. Она протекает, она соотнесена со всем миром и поэтому ценна. Поэтому для него нет «низких» вещей... Вровень — так изменяются измерения тем, производится переоценка их. Это возможно только при отношении к самому слову, как к атому, со своими процессами и строением». Так относится сам Тынянов и к вещи и к слову. Статья о Хлебникове может служить комментарием к его собственному творчеству — она имеет программный смысл.
Не менее программна и другая критическая статья — «Промежуток». Этим словом Тынянов характеризует положение новой поэзии. «Новый стих — это новое зрение. И рост этих новых явлений происходит только в те промежутки, когда перестает действовать инерция; мы знаем, собственно, только действие инерции, — промежуток, когда инерции нет, по оптическим законам истории кажется нам тупиком... У истории же тупиков не бывает. Есть только промежутки». Главные герои этой статьи — Хлебников, Маяковский и Пастернак. Тынянов пишет: «Русский футуризм был отрывом от срединной стиховой культуры XIX века. Он в своей жестокой борьбе, в своих завоеваниях сродни XVIII веку, подает ему руку через голову XIX века. Хлебников сродни Ломоносову. Маяковский сродни Державину. Геологические сдвиги XVIII века ближе к нам, чем спокойная эволюция XIX века... Мы скорее напоминаем дедов, чем отцов, которые с дедами боролись. Мы глубоко помним XIX век, но по существу мы уже от него далеки». Статья заканчивается важным принципиальным заявлением: «В период промежутка нам ценны вовсе не «удачи» и не «готовые вещи». Мы не знаем, что нам делать с хорошими вещами, как дети не знают, что им делать со слишком хорошими игрушками. Нам нужен выход».
Начав с теории и истории литературы, Тынянов подошел вплотную к самой художественной практике. Это было совершенно органично, поскольку сама теория и история выросли из проблем современной литературы и из наблюдений над процессом ее создания. Все было в «промежуточном» состоянии: и наука и искусство. Хлебникова Тынянов приветствует как «поэта-теоретика», «поэта принципиального», как «Лобачевского слова», который «не открывает маленькие недостатки в старых системах, а открывает новый строй, исходя из их случайных смещений». Он ценит даже числовые изыскания Хлебникова: «Может быть, специалистам они покажутся неосновательными, а читателям только интересными. Но нужна упорная работа мысли, вера в нее, научная по материалу работа — пусть даже неприемлемая для науки, — чтобы возникали в литературе новые явления. Совсем не так велика пропасть между методами науки и искусства. Только то, что в науке имеет самодовлеющую ценность, то оказывается в искусстве резервуаром его энергии... Поэзия близка к науке по методам — этому учит Хлебников».
Так между наукой и искусством был переброшен принципиальный мост. Метод научного мышления и анализа стал «резервуаром» для художественной энергии, которая, в свою очередь, ставила перед наукой новые проблемы и приводила к новым гипотезам. Это было порождено не только случайными индивидуальными свойствами, но и особенностями эпохи, заново ставившей все вопросы человеческого бытия и сознания и стремившейся к сближению разных методов мышления и речевых средств для понимания одних и тех же явлений. Литературная наука жила своей инерцией — и инерция эта кончилась; образовался своего рода «промежуток». Явились вопросы о методах и жанрах научного творчества, о составе и границах исследования. Рядом с проблемами «литературного факта» и «литературной эволюции» (таковы заглавия двух статей Тынянова) возникли проблемы «авторской индивидуальности» — проблемы судьбы и поведения, человека и истории. Литературовед учитывает эту область только в той мере, в какой она может быть выражена в научно-исторических терминах и может быть предметом научных обобщений; все прочее остается за пределами исследования — как «случайности», как «домашний», бытовой материал, годный только для «задворков» науки — для комментариев или примечаний. Отсюда неубедительность и зыбкость такого традиционного жанра историко-литературной науки, как «жизнь и творчество».
Тынянову, при его отношении к истории (»вровень») и к слову, необходимо было вырваться из этой традиции, преодолеть инерцию. Он не мог мириться с тем, что «за плотный и тесный язык» литературной науки не попадает интимное, домашнее, личное, бытовое. Все это для него в такой же мере исторично и историко-литературно (а значит, и научно), как и другое, потому что быт «кишит рудиментами разных интеллектуальных деятельностей». Он упрекает историков и теоретиков литературы в том, что они, «строя твердое определение литературы, просмотрели огромного значения литературный факт» — письма Пушкина, Вяземского, А. Тургенева, Батюшкова. Жизнь писателя, его судьба, его быт и поведение могут быть тоже «литературным фактом»: «Авторская индивидуальность не есть статическая система, литературная личность динамична, как литературная эпоха, с которой и в которой она движется». Так был подготовлен и обоснован «переход от научной работы к художественной, который на самом деле вовсе не был «переходом», а был преодолением инерции и выходом из «промежутка». Научная мысль вступила в соединение с научным воображением. Художественное творчество Тынянова начинается там, где кончалась область исследования, где кончался документ, но не кончается сам предмет, сама эпоха. Потому-то и неверно говорить о «переходе»: романы Тынянова научны, это своего рода художественные монографии, содержащие в себе не простую зарисовку эпохи и людей, а открытия неизвестных сторон и черт эпохи, с которой и в которой движется личность писателя.
3
Тынянов сосредоточил все свое творческое внимание на декабристах и Пушкине. Это произошло, очевидно, потому, что эпоха декабризма, очень важная для понимания всего общественно-политического и культурного развития России (один из «узлов русской жизни», по выражению Л. Толстого), оставалась до революции во многом темной и неразгаданной. Революция бросила свет назад — на весь XIX век; и на события и на судьбы отдельных людей.
Кюхельбекер был вовсе забыт и как писатель и как человек, а между тем роль его в борьбе за новую литературу была немалой. Эта роль была достаточно ясно показана в работе «Архаисты и Пушкин», но его судьба как последовательного декабриста не была там раскрыта, хотя то в тексте работы, то в примечаниях мелькают детали и догадки, рисующие трагический облик этого большого неудачника, «рожденного (по словам Е. Баратынского) для любви к славе (может быть, и для славы) и для несчастия». Оставалось подойти к нему так, чтобы личное и бытовое получило исторический смысл, чтобы малое стало большим. Это было принципиально важно для Тынянова как для писателя нашей эпохи, столкнувшей интимного человека с историей. Мало того: он имел полное основание подходить так, потому что люди декабристской эпохи прошли через тот же опыт и так же ощущали присутствие истории в самом личном, бытовом. Декабрист А. Бестужев писал в 1833 году: «Мы живем в веке историческом... История была всегда, свершалась всегда. Но она ходила сперва неслышно, будто кошка, подкрадывалась невзначай, как тать. ...Теперь история не в одном деле, но и в памяти, в уме, на сердце у народов. Мы ее видим, слышим, осязаем ежеминутно: она проницает в нас всеми чувствами».
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Портреты и встречи (Воспоминания о Тынянове)"
Книги похожие на "Портреты и встречи (Воспоминания о Тынянове)" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Юрий Тынянов - Портреты и встречи (Воспоминания о Тынянове)"
Отзывы читателей о книге "Портреты и встречи (Воспоминания о Тынянове)", комментарии и мнения людей о произведении.