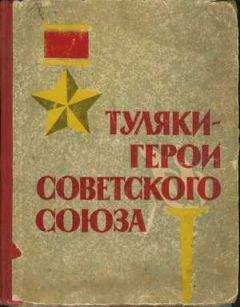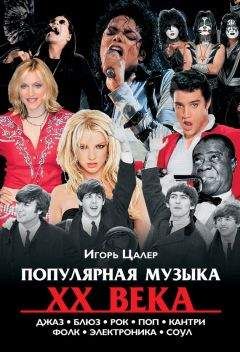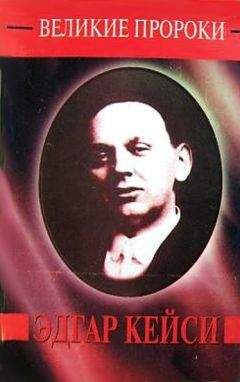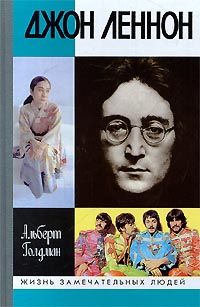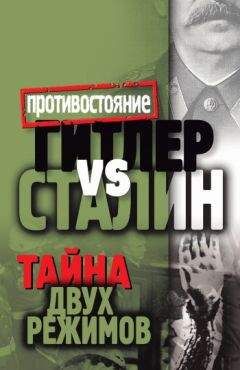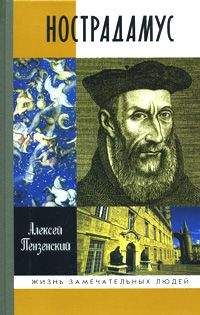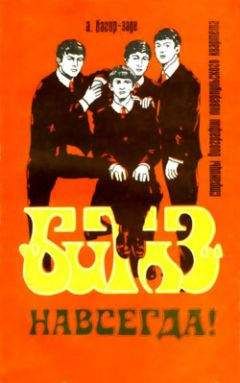Алексей Козлов - Козел на саксе

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Козел на саксе"
Описание и краткое содержание "Козел на саксе" читать бесплатно онлайн.
Мог ли мальчишка, родившийся в стране, где джаз презрительно именовали «музыкой толстых», предполагать, что он станет одной из культовых фигур, теоретиком и пропагандистом этого музыкального направления в России? Что он сыграет на одной сцене с великими кумирами, снившимися ему по ночам, — Дюком Эллингтоном и Дэйвом Брубеком? Что слово «Арсенал» почти утратит свое первоначальное значение у меломанов и превратится в название первого джаз-рок-ансамбля Советского Союза? Что звуки его «золотого» саксофонабудут чаровать миллионы поклонников, а добродушно-ироничное «Козел на саксе» станет не просто кличкой, а мгновенно узнаваемым паролем? Мечты парня-самоучки с Бутырки сбылись. А звали его Алексей Козлов…
Авторский вариант, расширенный и дополненный.
Вскоре после окончания архитектурного института в 1962 году, поработав немного в качестве художника по интерьерам, я завел себе трудовую книжку в одной подмосковной конторе и продолжал себе играть в кафе «Молодежное». С самого начала я решил, что служить архитектором не пойду, так как внутренне давно переключился на музыку. К тому же, меня никак не устраивала служба в проектной организации, где надо сидеть от звонка до звонка. Это представлялось совершенно невозможным, поскольку в душе я всегда был так называемым свободным художником. Так как я был после окончания института распределен в одну из московских проектных контор, но не явился на работу в положенный срок, у меня начались проблемы. Сперва меня забросали повестками по почте, на которые я не реагировал, затем прислали повестку о приглашении в отдел кадров конторы уже с нарочным, под расписку, но я подговорил своих близких эту повестку не брать и ни в коем случае в ней не расписываться, а сказать, что я уехал из города. Тогда архитектурная контора перешла к другой тактике и я стал получать повестки уже в суд, по поводу неявки на работу. Я также их игнорировал. После этого началась третья стадия сценария, отработанного властями в борьбе с молодыми специалистами, уклонявшимися от распределения. Ко мне домой стал приходить участковый милиционер и требовать от меня объяснительной записки о месте моей работы. Он сказал, что получил указание привлечь меня к ответственности, как тунеядца. При Хрущеве ввели тогда закон о тунеядстве, согласно которому ни один человек не имел права не работать, в противном случае он отправлялся работать в ГУЛАГе. Я написал заявление, что работаю в комсомольском кафе «Молодежное», что мое призвание — музыка, что я сменил профессию. После этого я принес в милицию справку из кафе, подтверждающую это, и от меня наконец-то отстали.
И вдруг, летом 1963 года, я узнаю, что неподалеку от моего дома, на территории ВДНХ, недавно открылся новый научно-исследовательский институт, призванный заниматься развитием дизайна в СССР. В то время понятие «дизайн» было чем-то загадочным для советских граждан, многие просто не понимали, что означает это слово. Как это ни парадоксально, но и при создании института слово «дизайн» было нежелательным и поэтому заведение назвали ВНИИ Технической Эстетики. Другим заменителем этого заграничного термина было словосочетание «художественное конструирование». Все это происходило в поздние хрущевские времена, когда прошла замена всех иностранных слов на русские. Французская булка стала называться «московской», печенье «Пети фур» — «китайской смесью», гостиница «Савой» — «Берлином» и таких примеров можно привести десятки, если не сотни. А до этого, в сталинские времена был период, когда нежелательным стало даже слово «архитектура», и разрешалось только «зодчество».
Я узнал, что во ВНИИТЭ, помимо проектных отделов, где сотрудники должны были сидеть на работе весь день, были и научные, где предполагалось всего два присутственных дня в неделю, а остальные дни назывались «библиотечными». Заинтересовавшись, я решил пойти в отдел кадров этого нового института и предложить себя в качестве сотрудника отдела теории дизайна, поскольку два рабочих дня в неделю еще можно было выдержать, играя еженедельно шесть вечеров в «Молодежном». Это был бы идеальный способ не рвать окончательно с той сферой деятельности, в которой у меня все-таки было высшее образование и диплом. Ведь джазовая карьера при комсомольском кафе могла накрыться в любой момент. К счастью меня приняли на работу младшим научным сотрудником отдела теории с окладом в 130 рублей. Постепенно выяснилось, что и в эти два присутственные дня никто из «ученых» после обеда на работе не остается, уходя «в библиотеку», так что место для официальной службы оказалось идеальным. Но насколько оно стало идеальным для меня, я осознал позднее, когда ближе познакомился с характером своей работы и с окружавшими меня людьми. Ввиду того, что область так называемой технической эстетики была чем-то совсем новым, в этот институт пришли работать необычные личности. Это были специалисты в самых разных областях науки и практической деятельности, искавшие неординарного применения своих знаний. Кроме того, здесь постепенно собрались те, кто искал более свободной, более творческой обстановки по сравнению с устоявшимися советскими учреждениями, где идеологическое начало преобладало во всем. В первые годы существования этого института там действительно была полная свобода в выборе тем для научных исследований, никто не навязывал методики работы, совершенно не обязательно было по каждому поводу ссылаться на Маркса, Ленина или Брежнева в своих текстах. Мы, сотрудники института, были призваны создать не существовавшую пока теорию советского дизайна. Перед нами был чистый лист бумаги.
Я, считавший себя до этих времен достаточно широко образованным и начитанным человеком, попал в компанию специалистов такого высокого класса в разных областях, что ощутил себя поначалу чем-то вроде неуча. Достаточно назвать такие имена, как Игорь Голомшток, Георгий Щедровицкий, Олег Генисарецкий, Елена Черневич, Леонид Переверзев, Евгения Зенкевич, Людмила Марц, Владимир Зинченко, Юрий Долматовский, Юрий Сомов… Работа научного сотрудника сводилась к тому, что он сам выбирал себе тему для исследований, которая согласовывалась на Ученом совете и должна была вносить определенную лепту в создание единой теории дизайна. За время работы в институте я занимался исследованиями в самых разных областях знания. Моя первая работа, ставшая вскоре темой кандидатской диссертации, была посвящена истории и принципам проектирования часов. Позднее, в течение двух лет, я занимался исследованием возможности предсказания предметной среды будущего, изучая все существовавшие утопические и антиутопические произведения, принадлежавшие известным писателям, ученым, политическим и религиозным деятелям, с древних времен до наших дней. Затем, приобретя некие навыки ученого-методолога, я взялся за серьезную тему, связанную с построением теоретической модели творческого процесса дизайнера. Здесь мне пришлось окунуться в море литературы по психологии творчества, а также ближе подойти к основам логики и методологии науки, описывающей законы построения любых гипотетических моделей. Для того, чтобы выдавать качественный научный продукт, чтобы не было стыдно перед коллегами, пришлось по-настоящему вникать во все проблемы и становиться, по сути, настоящим ученым. Варианта легкого сачкования в этом институте не получалось. Да и сами темы моих исследований оказались настолько интересными, что я увлекся своей новой профессией. Этому способствовало, к тому же, сознание элитарности как самого института, так и всего, чем мы там занимались. Так называемые библиотечные дни, которые предназначались, вроде бы, для ничегонеделания, постепенно превратились в истинные, трудовые библиотечные дни. Получив пропуск в научный зал Библиотеки им. Ленина и допуск в спецхран, я стал просиживать в Ленинке массу времени по собственной воле. Для меня открылась такая пропасть информации, которой я не мог себе раньше и представить. Обычно, приходя туда утром, и заняв место в зале, я заказывал два типа книг. Одни книги касались моей непосредственной работы во ВНИИТЭ, другие относились к чему угодно, просто интересовавшему меня. Научившись пользоваться каталогами Ленинки, я выуживал из ее хранилищ старинные издания, эзотерические книги, современные иностранные книги и журналы, которые невозможно было получить больше нигде. Был период, когда сидение в Ленинке стало для меня чем-то вроде наркомании, а получаемая там обширная и беспорядочная информация — разновидностью наркотика. В какой-то момент я понял, что сидение там и чтение все новых и новых редких книг затягивает меня в особый образ жизни, в круг людей, сбегающих, эмигрирующих в мир информации из реальной действительности, где надо бороться за свой успех, надо реализоваться. Я стал замечать в библиотеке одних и те же постоянных посетителей, которые явно сделали это место своим вторым домом. Я постоянно сталкивался с ними в буфете, у шкафчиков каталогов, в курилках, в гардеробе. Приглядевшись к некоторым из них повнимательнее, я постепенно понял, что Ленинка стала для многих представителей советской интеллигенции прекрасным убежищем от необходимости общения с сотрудниками в своем учреждении, от семьи, от социума вообще. Под видом работы над диссертациями многие специалисты, включившиеся в процесс научно-исследовательской работы, просто сбегали таким способом от серой жизни. Они никуда не торопились, подолгу курили, часто ходили в буфет. Но, среди посетителей Ленинки явно выделялись и те, кто приходил сюда с конкретной, жесткой программой, как можно скорее защитить диссертацию, сперва кандидатскую, потом докторскую, стать начальником сектора, отдела, института. Это было видно по тому, как они работали, с каким фанатизмом делали они выписки из книг. Для них знание было не целью, а средством. Осознав все это, я понял, что сам постепенно становлюсь типичным представителем интеллектуальной эмиграции, что получение знания становится для меня неким видом хобби, а к хобби я всегда относился с некоторой долей пренебрежения. К концу моей научной карьеры я постепенно остыл к пафосу просиживания штанов в Ленинке, но годы, проведенные там, вспоминаю с какой-то тоской по тому, чего уже никогда не повторить. В наши времена люди, эмигрирующие в виртуальный мир информации, просиживают гораздо большую часть жизни в интернете, не выходя из дома.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Козел на саксе"
Книги похожие на "Козел на саксе" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Алексей Козлов - Козел на саксе"
Отзывы читателей о книге "Козел на саксе", комментарии и мнения людей о произведении.