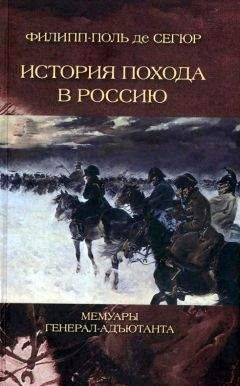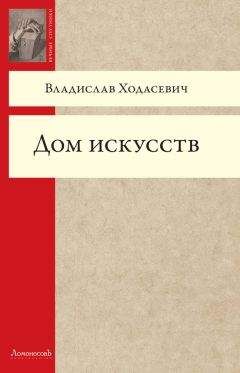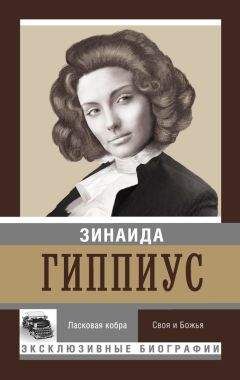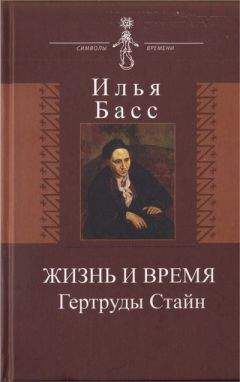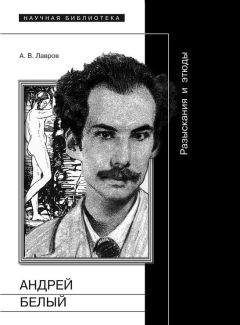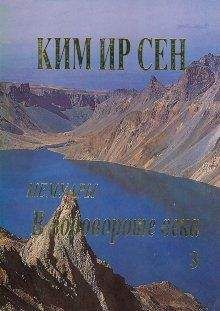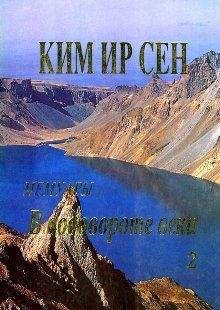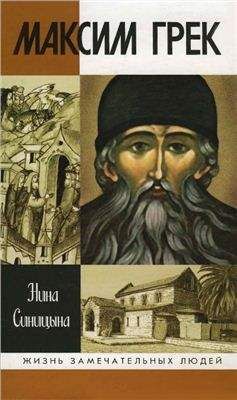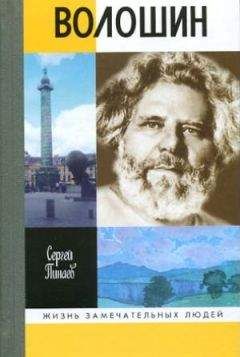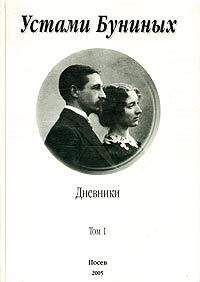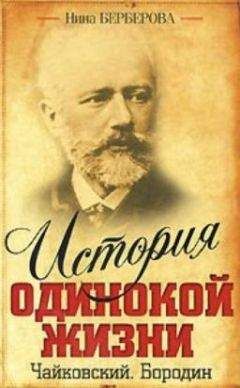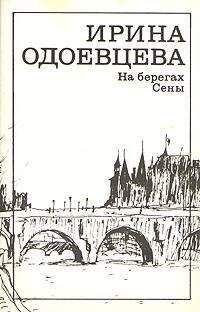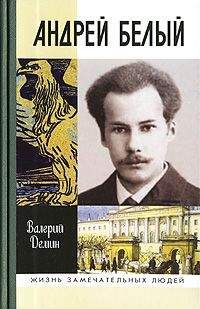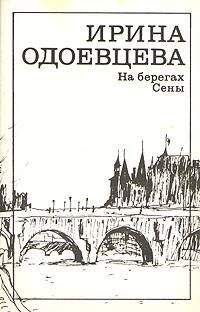Нина Берберова - Курсив мой

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Курсив мой"
Описание и краткое содержание "Курсив мой" читать бесплатно онлайн.
"Курсив мой" - самая знаменитая книга Нины Берберовой (1901-1993), снискавшая ей мировое признание. Покинув Россию в 1922 году, писательница большую часть жизни прожила во Франции и США, близко знала многих выдающихся современников, составивших славу русской литературы XX века: И.Бунина, М.Горького, Андрея Белого, Н.Гумилева, В.Ходасевича, Г.Иванова, Д.Мережковского, З.Гиппиус, Е.Замятина, В.Набокова и др. Мемуары Н.Н.Берберовой, живые и остроумные, порой ироничные и хлесткие, блестящи по форме.
При нашем последнем свидании в Берлине, говоря о многих иных своих разочарованиях, он мне признался: "А знаете, в Иванове-то я ошибся. Совсем его не понял вначале". Много грустного, много и грубого рассказал он мне в эти наши мимолетные встречи, только что приехав из России, уже больной, смущенный и обрадованный Европой. Порок сердца, начавшийся у него в России, развился за эти годы в болезнь страшную, редкую в столь молодых годах. Сперва упорно повышенная температура, а затем два сильнейших припадка уже в Гамбурге, где жила его семья, приковали его на девять месяцев к постели, обрекли на безвременную смерть.
Похудевший, выросший, в новом костюме, сменив студенческую фуражку на мягкую шляпу, он приходил ко мне в Берлине между визитами к врачам и без умолку говорил, передавая почти день за днем петербургскую жизнь за тот год, что мы не виделись с ним.
Пробыв четыре дня в Берлине (в середине июля 1923 года), Лунц уехал в Гамбург, а через месяц слег, сначала в санатории, а потом в клинике. В сентябре прошлого года положение его представилось безнадежным. Затем ему стало легче. Частые письма его, то продиктованные сестре, то написанные самим, говорили то о полном упадке сил, то вновь об улучшении. В декабре он писал, что скоро вышлет свою последнюю пьесу, которую до сих пор хранил под подушкой, никому не показывая. Но пьесу не выслал. За последние месяцы я почти ничего уже не знала о нем. 9 мая он скончался. Похоронили его в Гамбурге... Он вырос в революцию, в тяжелые годы лишений и душевного огрубения, когда ежедневно перед молодыми писателями вставали соблазны, но он до конца оставался скромен, прям и бодр. Он готовился к жизни трудной, суровой и горячей, но от всего этого осталось несколько десятков исписанных листов бумаги да память о нем в сердцах тех, что знали его и утешались им в безутешные годы".
Аким Львович Волынский, спавший в те зимы не только в шубе и шапке, но и в калошах, находил, что в Иде есть что-то итальянское, и он был прав. Ее черные волосы локонами спадали на лоб, ленивые движения, красивые маленькие руки, какая-то во всем тожная лень, медлительность улыбки; тяжелое тело, изнеженное, несмотря на лишения, картавость - ей следовало бы носить парчу и запястья, а она ходила (как все мы) в пальто из портьеры, в платье из маминого капота, в кофточке из скатерти.
Сегодня обещал прийти Радлов, - картавила она, таинственно сверкая глазами, - на будущей неделе придут актеры из Александринки. Я ездила к Бенуа и пригласила его... - Она была хозяйкой понедельников, и ту часть жизни, которая оставалась свободной от "г'оманов" (не тех, что читают, а тех, что переживают), отдавала собраниям и стихам.
Мне запомнился вечер в понедельник 21 ноября. Из Зубовского я пришла в Дом Искусств, в класс К.И.Чуковского, и там, как и все, читала "по кругу" стихи. И Корней Иванович вдруг похвалил меня. "Да, - сказал он, пристально глядя на меня и словно меря меня, внутри и снаружи, - вы написали хорошие стихи..." И Коля Чуковский сиял от удовольствия толстым лицом, радуясь за меня.
Потом мы с ним вместе пошли с Мойки к Литейному и пришли к Иде довольно рано. Опять расставляли табуреты, пепельницы, дули в печку.
- Я пригласила Анну Андреевну, - говорила Ида (а "настоящая мама" в это время готовила бутерброды с чайной колбасой мне и Коле). - И я встретила Ходасевича. Он тоже обещал прийти.
Эта фамилия мне ничего не сказала, или очень мало.
Поздно ночью, когда мы шли домой (Чуковский жил на Спасской, и нам было по пути), он говорил мне, весело размахивая руками:
- Голубушка! Вас сегодня похвалили! Как я рад за вас! Папа похвалил сначала, а теперь - Владислав Фелицианович. Замечательно это! Какой чудный день! (Ида шепнула мне, когда я уходила: Сегодня твой день!)
Там, сидя на полу, я "по кругу" читала:
Тазы, кувшины расписные
Под теплым краном сполосну,
И волосы, еще сырые,
У дымной печки заверну.
И буду девочкой веселой
Ходить с заложенной косой,
Ведро носить с водой тяжелой,
Мести уродливой метлой...
И так далее. Так что даже Ахматова благосклонно улыбнулась (и надписала мне экземпляр "Анно Домини"), впрочем, ничего не сказав, а некто, которого почему-то звали "Фелициановичем", объявил, что насчет ведра и швабры - простите! метлы! - ему понравилось.
Ну а если бы и нет? - подумала я. - Если бы ни этот Фелицианович, ни Корней Чуковский не похвалили бы меня? Тогда что? Ничего бы не изменилось, все равно!
У Ходасевича были длинные волосы, прямые, черные, подстриженные в скобку, и он сам читал "Лиду", "Вакха", "Элегию" в тот вечер. Про "Элегию" он сказал, что она еще не совсем кончена. "Элегия" поразила меня. Я достала его книги, "Путем зерна" и "Счастливый домик". 23 декабря он опять был у Иды и читал "Балладу". Не я одна была потрясена этими стихами. О них много тогда говорили в Петербурге.
Но кто был он? По возрасту он мог принадлежать к Цеху, к "гиперборейцам" (Гумилеву, Ахматовой, Мандельштаму), но он к ним не принадлежал. В членах Цеха, в тех, кого я знала лично, для меня всегда было что-то общее: их несовременность, их манерность, их проборы, их носовые платочки, их расшаркиванья и даже их особое русское произношение: красивий вместо красивай, чецверг вместо читверк; грим "светских молодых людей" (а "света"-то больше и не было!), что-то "классовое", что казалось иногда забавным, иногда довольно приятным, а порой и печальным анахронизмом и всегда носило печать искусственности. Ходасевич был совершенно другой породы, даже его русский язык был иным. Кормилица Елена Кузина недаром выкормила этого полуполяка. С первой минуты он производил впечатление человека нашего времени, отчасти даже раненного нашим временем - и, может быть, насмерть. Сейчас, сорок лет спустя, "наше время" имеет другие обертоны, чем оно имело в годы моей молодости, тогда это было: крушение старой России, военный коммунизм, нэп как уступка революции - мещанству; в литературе - конец символизма, напор футуризма, через футуризм - напор политики в искусство. Фигура Ходасевича появилась передо мною на фоне всего этого, как бы целиком вписанная в холод и мрак грядущих дней.
В студии Лозинского мы учились поэтическому переводу. Выбран был сонет Хозе Мария Эредиа о путешествии волхвов в Вифлеем - первая строчка трудностей не представляла (она же была и последней):
Волхвы Гаспар, Мельхиор и Вальтасар,
но дальше появились трудности, которые в подробностях обсуждались сначала предлагались слова, потом комбинации слов, отвергались десятки возможностей, принималась единственно совершенная, и за час мы успевали продумать или "проработать" не более двух-трех строк. Оттуда - на Галерную. "Тени сизые смесились" и Томашевский, ведущий анализ, тот, что тогда был еще такой новостью и который сейчас в западном мире считается основой всякой поэтики. Тень Щербы витала над нами, и в меня сыпалась словесная премудрость. Выхожу на заснеженную улицу. Тихо под аркой, тихо на площади, Петербург - в пророчествах Гоголя и Достоевского (и Блока), как стиснутый льдинами корабль под вьюгой. Где кончается тротуар, где начинается мостовая - неизвестно. Бегу в мягких валенках, падаю, встаю. На углу Конногвардейского бульвара - памятник Володарскому. Он из гипса, под него в прошлом году подложили бомбу и вырвали ему живот, починить нечем, оставить так - неуважительно, снять - распоряжения ждут, а пока закрыли его рваной тряпкой, которая под метелью, на ветру, хлещет в разные стороны, машет, грозит, зовет и кланяется. Мимо памятника и с угла Конногвардейского прямо наискось, через площадь, к углу Морской, к Астории, падая, проваливаясь в снег. Ни огня, ни звука, только воет вьюга да плывут в серо-белом уже ночном зимнем сумраке смутные фигуры пешеходов (не то: "Впереди Исус Христос", не то: "А шинель-то моя!"), пропадают, пригибаясь от ветра, опять выныривают и скользят мимо меня.
- Осторожно! Тут скользко!
Это кто-то кричит мне подле самой Астории с противоположного угла, и из метели появляется фигура в остроконечной котиковой шапке и длинной, чуть ли не до пят, шубе (с чужого плеча).
- Я вас тут поджидаю, замерз, - говорит Ходасевич. - Пойдемте погреться. Не страшно бегать в такой темноте?
Он знал, что в Зубовском лекции кончаются в восемь, и стоял на углу, поджидая, когда я пройду. Пока мы стоим и рассматриваем друг друга, он говорит:
- Шуба у меня Мишина, потому такая длинная, это мой брат, московский адвокат, а френч - из Мишиного перелицованного фрака. И мне тепло. А вам?
Я шагаю с ним рядом. Он ходит легко, он выше меня, он худ и легок, и, несмотря на "Мишины" одежды, в нем сквозит изящество.
Пока мы пьем кофе в низке, он расспрашивает меня: живете с папой-мамой? учитесь? а папа-мама какие? влюблены в кого-нибудь? стихи новые написали? еще что-нибудь было про швабру? На некоторые вопросы я не отвечаю, на другие отвечаю подробно: папа-мама, конечно, здорово мешают жить, когда человеку двадцать лет, но в общем, если сказать правду, я их воспитала так, что они съехали на тормозах со своих позиций. Мне ж, окромя цепей, терять нечего.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Курсив мой"
Книги похожие на "Курсив мой" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Нина Берберова - Курсив мой"
Отзывы читателей о книге "Курсив мой", комментарии и мнения людей о произведении.