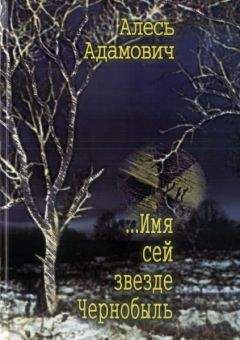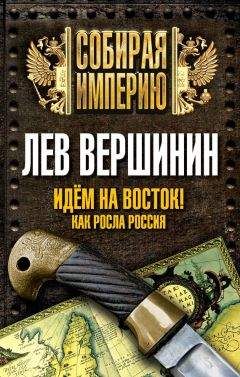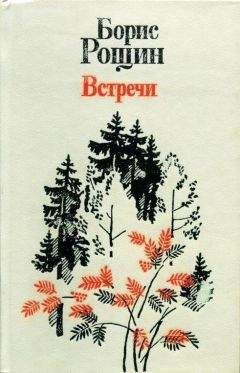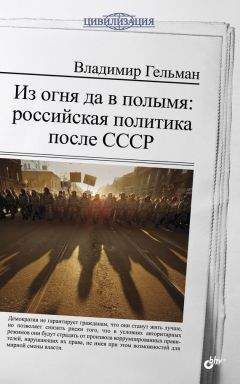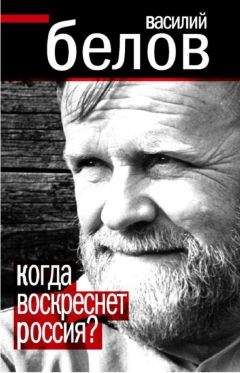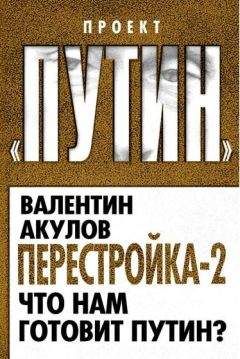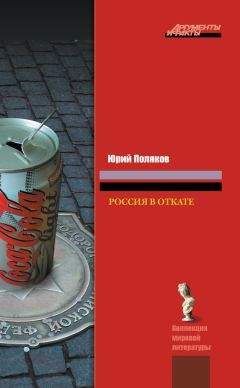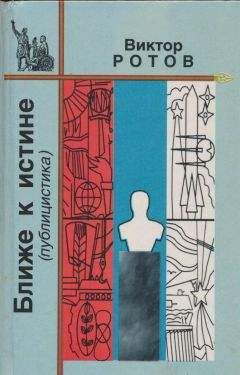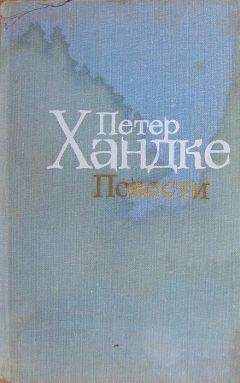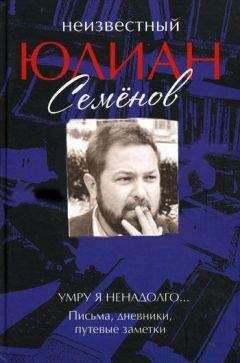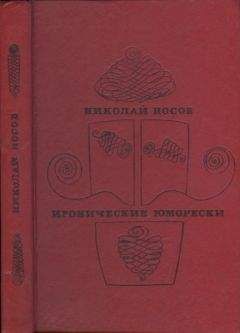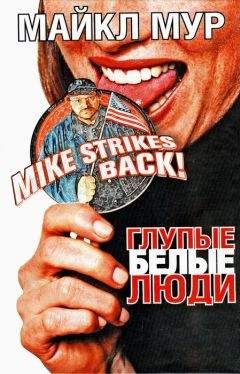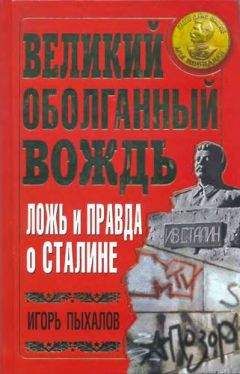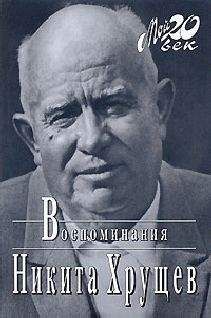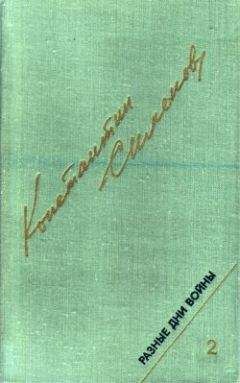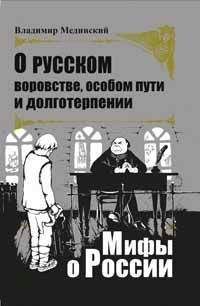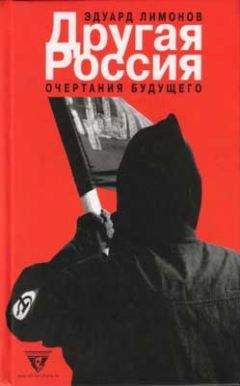Иван Шевцов - Соколы
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Соколы"
Описание и краткое содержание "Соколы" читать бесплатно онлайн.
В новую книгу известного современного писателя включен его знаменитый роман «Тля», который после первой публикации произвел в советском обществе эффект разорвавшейся атомной бомбы. Совковые критики заклеймили роман, но время показало, что автор был глубоко прав. Он далеко смотрел вперед, и первым рассказал о том, как человеческая тля разъедает Россию, рассказал, к чему это может привести. Мы стали свидетелями, как сбылись все опасения дальновидного писателя. Тля сожрала великую державу со всеми потрохами.
Во вторую часть книги вошли воспоминания о великих современниках писателя, с которыми ему посчастливилось дружить и тесно общаться долгие годы. Это рассказы о тех людях, которые строили великое государство, которыми всегда будет гордиться Россия. Тля исчезнет, а Соколы останутся навсегда.
О любви, о женщине он говорит с трогательной нежностью и благоговением, как о божестве возвышенном и вместе с тем несказанно земном. Как и все творчество Василия Федорова, его лирика пронизана тонкой прозрачной философией. Она афористична. Поэт умеет в две краткие строки вложить такой глубины, изящества и мощи заряд, который под силу лишь исконно русскому таланту:
По главной сути жизнь проста:
Ее уста — его уста.
И все, достаточно. Это уже поэма, ничего общего не имеющая с брюсовской шуткой: «О, закрой свои бледные ноги…»
Гражданская позиция Василия Федорова была тверда и неизменна. Он не скрывал ее, не подстраивал под конъюнктуру новых веяний. И не только его эпические поэмы, написанные с чарующим мастерством, его лирика насквозь пронизана гражданским пафосом. Его стихотворение «Совесть» — это удивительный монолит философии, гражданственности и лирики. Это одновременно тревожные раздумья мыслителя, и боль исстрадавшейся души, и неподкупность гражданина, шагающего по родной земле с гордо поднятой головой.
Разного рода шарлатанов, выдающих себя за новаторов и «сложные натуры», он просто называл иудами. Опытный аналитик, он умел интуитивно проникать в самую сущность вещей и событий, как тонкий знаток человеческой психики и души.
Сегодня, в годы великой российской смуты, можно часто слышать скорбный вопрос: «Почему молчит народ, ограбленный, униженный и оскорбленный?» Василий Дмитриевич ответил на этот вопрос еще в конце 50-х годов. Я работал тогда заместителем главного редактора журнала «Москва». Однажды Василий Дмитриевич предложил журналу цикл своих новых стихов. Это была настоящая большая поэзия, и мы заслали его стихи в набор. Когда номер журнала уже был набран, верстку потребовали, как это часто тогда практиковалось, в ЦК. И вот мне звонок от главного в то время литературного цековского босса И.Черноуцана: «Почему вы решили публиковать стихотворение Федорова «Рабская кровь?» — прозвучал прокурорский вопрос. «Потому, что это хорошие стихи», — ответил я. «Это вредные стихи, провокационные, клеветнические, — резко отчеканил Черноуцан.
— Это клевета на советский народ. Поэт обвиняет нас в наследственном рабстве. Это ложь: мы не рабы, рабы не мы. Снимите их из номера».
Это был приказ, не подлежащий обсуждению. Стихотворение пришлось снять, и я откровенно, без всякой «дипломатии» рассказал об этом Василию Дмитриевичу. Он очень огорчился. Это стихотворение для него было особенно дорого.
— И ты не мог отстоять? — как-то мрачно, даже с обидой сказал он.
— Спорить было бесполезно: Черноуцан мог в отместку снять весь цикл твоих стихов. Он бы сделал это через цензуру.
Прошло немного лет после того случая. Под яростным давлением сионистских сил, которые в то время хозяйничали в московской писательской организации, я вынужден был уйти из журнала «Москва», а Федоров в то время занял аналогичную должность — зам. главного редактора журнала «Молодая гвардия». Однажды без всяких конкретных дел я заглянул в его «обитель». Василий Дмитриевич сидел за письменным столом среди вороха бумаг. В основном это были стихи молодых поэтов, жаждущих опубликоваться в солидном журнале.
— Вот послушай, — весело сказал Василий Дмитриевич, развернув одно из писем. — Пишет молодой поэт из Одессы. Любопытные стихи и талантливые.
В стихотворении, которое мне зачитал Федоров, поэт рассказывал, как он, влюбленный в Пушкина и, в частности, в его «Цыган», решил навестить Кишинев, чтобы вдохнуть глоток пушкинской эпохи. Но юного романтика постигло разочарование. Он не нашел в послевоенном Кишиневе следов своей пылкой фантазии и по наивности решил спросить местного жителя о пушкинских местах, о цыганах. Свое стихотворение он закончил так:
И мне ответил молдаван,
Мою романтику развеяв: —
Зачем тебе шатры цыган,
Когда кругом ларьки евреев?
— Опубликуешь? — подзадоривая, спросил я Василия Дмитриевича.
— Да разве Черноуцан позволит сказать о евреях? Одно слово это приведет его в бешенство, — грустно произнес Федоров. Тогда я напомнил ему «Рабскую кровь». Он понимающе улыбнулся, достал толстый томик своих стихов и поэм и сделал на нем дарственную надпись:
«Дорогой Ваня! Разная бывает на земле смелость, разная бывает и смелость испытания. Надо помнить об этом. Желаю твоей смелости, творческой мудрости. Вас. Федоров».
Среди поэтов своего поколения он выделялся чувством высокого достоинства и гражданского долга Он иронически относился к суете эстрадных мотыльков, шумно слизывающих пыльцу с проходящего разноцветья. Его муза обращалась к глубинным пластам народной жизни, к гигантам истории и мысли, таким, как Бетховен, Аввакум из одноименных поэм. Он изваял их резцом изящной словесности в мраморе и бронзе. Он был наделен Божьей благодатью, как поэт-мыслитель, и дорожил своим высоким призванием. Ему претили лесть, чинопочитание, чванство; он знал себе цену и гордо нес высокое имя русского поэта. Не будучи обласканным властями, он высоко ценил подлинный талант и с иронической улыбкой взирал на золотые звезды услужливых лакеев от литературы. На тусклом небосклоне поэзии он сверкал в ярком созвездии Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Некрасова, Блока, Маяковского, Есенина.
АНАТОЛИЙ ИВАНОВ
В отношении писателей бытует немало расхожих эпитетов — знаменитый, популярный, крупный, выдающийся. Но все эти титулы лишены конкретного содержания и невольно порождают у читателя вопросы, на которые не всегда можно дать определенный ответ. Потому-то эти титулы с легкостью навешиваются на сочинителя как ярлык превосходства, не всегда по достоинству заслуженный. Сколько их на моем веку было навешано услужливыми критиками литераторам средней руки, коньюнктурщикам, а то и откровенной бездарности. В свое время знаменитым считался Ажаев — автор романа «Далеко от Москвы», титул популярного носил Елизар Мальцев, крупным считался Вадим Кожевников, а в выдающихся ходил Борис Полевой. На самом деле все они были очень посредственными беллетристами, а их сочинения не имеют никакого отношения к изящной словесности. Самой высшей оценкой писателя является титул ХУДОЖНИК СЛОВА, что равнозначно классику.
В русской литературе XX в. не так уж много было художников слова: М.Горький, С.Сергеев-Ценский, В.Шишков, М.Шолохов, Л.Леонов. Особняком стоит И.Бунин — прекрасный чародей словесной живописи, который, однако, не поднимал глубинных пластов общественной жизни России. Художник слова — это не только изысканный стилист. Это еще и мыслитель, проникающий в сокровенные сферы общественного бытия и создающий посредством яркой словесной живописи зримые картины жизни людей в самые драматичные периоды истории. И в центре этих картин художник слова осязаемо воссоздает образ и характер действующего персонажа.
Из ныне здравствующих русских писателей наиболее ярким художником слова мне видится Анатолий Иванов, чье семидесятилетие мы отметили в мае этого года.
В монументальном творчестве Анатолия Иванова нашли свое продолжение лучшие традиции русской классической литературы XX в. В поле его творческого зрения всегда были судьбы Отечества и народа в их историческом аспекте. В своих главных романах — «Вечный зов» и «Тени исчезают в полдень» писатель развертывает многослойную драматическую картину жизни нашего общества в середине уходящего тысячелетия, в самую суровую ее пору, когда судьбы людские перехлестывались в жестоких, трагических обстоятельствах с множеством проблем и вопросов типа «быть или не быть?» Жизнь и судьба отдельной личности в этих романах неотъемлема от судьбы, выпавшей на долю всей страны, когда пришли в движение социальные пласты общества и под их ударами рушились прежние обычаи и порядки, когда битву с фашистским нашествием нашему народу пришлось взять на свои плечи и выполнить историческую миссию спасения цивилизации.
Талант художника слова позволил Анатолию Иванову, как духовидцу и аналитику разобраться в сложном переплетении событий и судеб, проникнуть в тайны души, запомнить характеры, движущие поступками людей, и создать стройную, многоцветную, эпическую картину. В этом отношении до осязаемости выразителен диалог двух предателей — Лахновского и Полипова. Какими точными, выразительными штрихами рисует эту очень насыщенную нюансами картину писатель. Вот отрывок:
«— Вы что же, Арнольд Михайлович, в бога верите? — спросил Полипов с просквозившей легкой иронией. Лахновский лишь качнул головой, но не утвердительно, а как-то неопределенно, будто не соглашаясь, но и не протестуя против иронии в голосе Полипова.
— Не верите вы, — сказал он. — Ни тогда… в те давние годы не верили, ни сейчас.
Лахновский сделал головой опять такое же движение. На этот раз он еще едва заметно пожал плечами и как-то горестно вздохнул».
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Соколы"
Книги похожие на "Соколы" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Иван Шевцов - Соколы"
Отзывы читателей о книге "Соколы", комментарии и мнения людей о произведении.