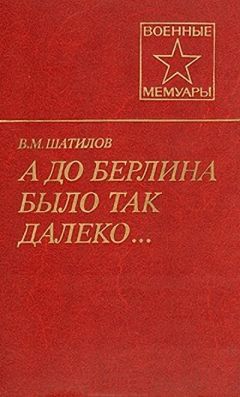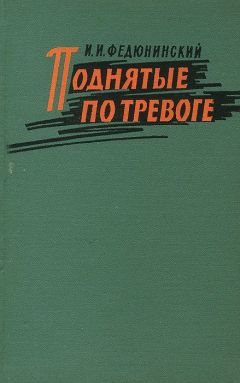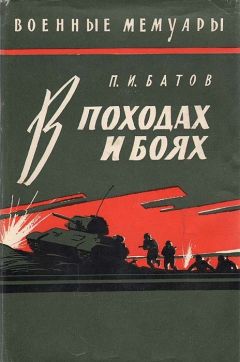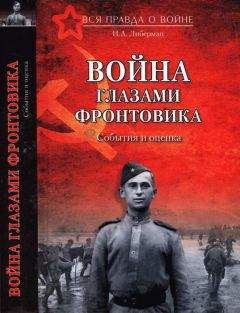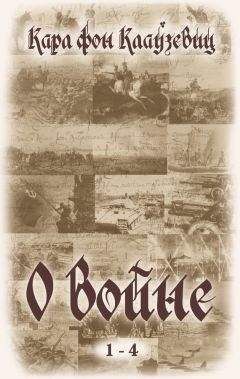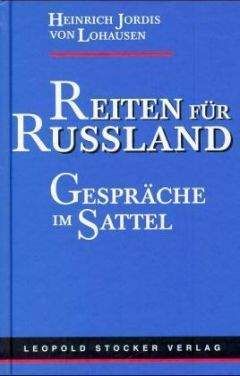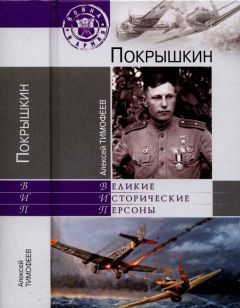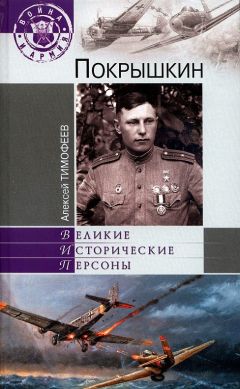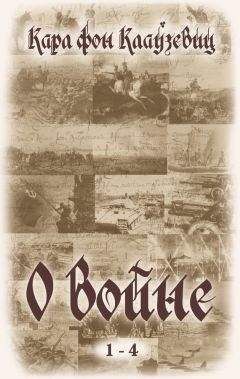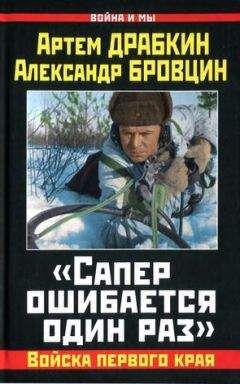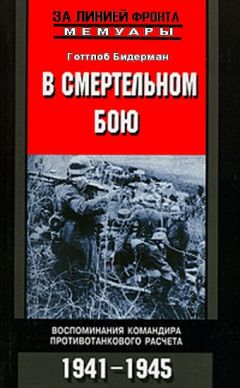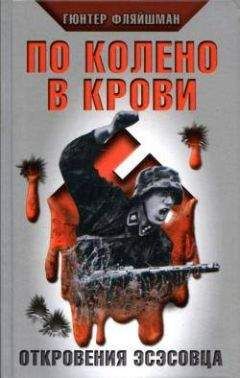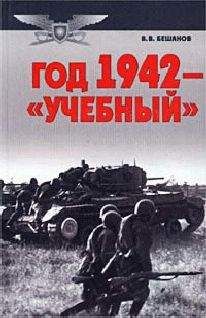Исаак Кобылянский - Прямой наводкой по врагу
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Прямой наводкой по врагу"
Описание и краткое содержание "Прямой наводкой по врагу" читать бесплатно онлайн.
Автор этой книги начал воевать в 1942 году под Сталинградом. Он был тогда сержантом, командиром орудийного расчета батареи 76-мм полковых пушек, носивших прозвище «Прощай, Родина!» за их открытые позиции у переднего края. В отличие от многих военных мемуаров книга не утомит читателя описаниями баталий, в ней рассказано лишь о нескольких драматически сложившихся боях. Гораздо больше места уделено искреннему рассказу о восприятии войны поначалу неопытным городским парнем, верившим официальной пропаганде. Откровенные, с долей юмора рассказы о собственных заблуждениях и промахах, о многих «нештатных» ситуациях на войне вызывают улыбку, но чаще заставляют задуматься. Вместе с автором героями книги стали его однополчане. С неподдельной теплотой он описывает самых близких друзей, подлинных героев войны.
По расчетам военкомата, шестьсот километров до города Сталино наш отряд должен был преодолеть за две с небольшим недели. Но уже второй день марша, начавшийся вскоре после рассвета, оказался очень трудным. Немилосердно жаркое июльское солнце, рытвины и ухабы грунтовых дорог, петлявших среди необозримых полей созревшей пшеницы, и редкие короткие привалы уже к полудню превратили нашу, вчера еще такую стройную колонну шагающих в ногу веселых парней в растянувшуюся на много сотен метров унылую процессию.
К моменту остановки на обед в каком-то колхозе мы понесли первую потерю: один из допризывников не выдержал перегрева и потерял сознание, мы оставили его в колхозном медпункте. Сытный горячий обед и час отдыха помогли, но к концу дня усталость была смертельная, да и многие из-за неподходящей обуви основательно натерли ноги. Несмотря на очень неудобный груз (чемодан в одной руке, пальто в другой), я не чувствовал себя обессиленным и несчастным.
В дни марша у многих сельских околиц к нашей колонне подходил и, иногда в одиночку, иногда группами, женщины разных возрастов, в руках у одних были крынки молока, другие выносили творог, вареные яйца, иную снедь. Угощали каждого из нас, кто, покинув на минутку строй, подходил к ним. Трогательнее всего в этих коротких встречах были материнские напутствия, пожелания уцелеть на войне, которые шли от души этих простых сельских женщин, утиравших слезу уголком белой косынки. Некоторые в ответ на слова благодарности говорили: «А может, бог даст, моего сыночка перед фронтом кто-нибудь, как я тебя, угостит».
Марш продолжался, но день за днем рушилась дисциплина в отряде, становилось все больше хромающих, не поспевавших за колонной, численность отряда убывала. Трудно сказать, куда исчезали отставшие. Наш маршрут проходил немного южнее железнодорожной линии Киев — Харьков, возможно, беглецы добирались до ближайшей станции, где садились в эшелон, шедший на восток, а кто-то поворачивал на запад, к родному дому. Так или иначе, к концу недели марша, когда отряд таял уже не по дням, а по часам, сопровождающие офицеры увидели выход в том, чтобы оставшееся расстояние мы преодолели в эшелоне, и повели нас вдоль железной дороги. На первом же разъезде стоял под парами готовый отправиться на восток товарный состав, и, пока офицеры обсуждали план действий, несколько наших парней забрались на платформы и прощально помахали руками. В этот момент я понял, что организованного движения отряда уже не будет. Мы прошагали еще с десяток километров и вечером достигли станции, на которой стояло несколько составов. Здесь отряд окончательно «растворился». С этого вечера я двигался «на перекладных», каждый раз пересаживаясь из останавливавшегося эшелона в другой, который должен был вскоре отправиться. На четвертые сутки такой езды с пересадками я уже был в пределах Донбасса. Здесь все выглядело как до войны, ходили по расписанию пригородные поезда. Доехав до Ясиноватой, пригорода Сталино, я 20 июля оказался в просторной квартире семьи моей тети, маминой сестры. В грязной одежде и разбитых туфлях, неумытый и небритый, усталый и голодный, я стеснялся сесть за стол, пока не умылся и не сменил футболку.
В областном военкомате, куда я явился на следующий день, рассмотрели мои документы, поставили на учет и велели, не откладывая, поступить на работу или же на учебу в местный институт. К концу недели я уже работал инструментальщиком-маркировщиком в мастерской при шахте. По утрам выдавал рабочим инструменты, в конце дня принимал их обратно, а весь день маркировал готовую (военную!) продукцию мастерской — металлические фляги для доставки горячей пищи солдатам на передовую.
Прошло примерно две недели, и тетя получила письмо от моей матери, которую вместе с Толей занесло в башкирскую глушь (село Инзер Белорецкого района). Ее направили в сельскую больницу на должность зубного врача и предоставили комнату в бревенчатом доме рядом с больницей. Поступило сообщение и от отца, его контора в составе нескольких сотрудников теперь располагалась в Харькове. Я был рад этим известиям, но покоя мне не было — где же моя Вера?
Пытаясь найти любимую, я, рассчитывая лишь на чудо, написал и отправил с десяток почтовых открыток в города, куда, по слухам, направляли эвакуированных. На всех открытках указывал адрес: «...(город), главпочтамт, до востребования, Маковчик Вере Васильевне». И чудо свершилось! В середине августа я получил открытку, написанную таким дорогим для меня почерком, с обратным адресом: «Куйбышев-5, до востребования». Вера сообщила, что они находятся в Куйбышеве (нынешняя Самара), живут недалеко от вокзала в служебном вагоне номер 103– 5, в котором семья уехала из Киева. Неописуемо счастливый, я сразу же написал Вере подробное письмо, и больше никогда наша переписка не обрывалась.
В этот же день я прекратил работать в мастерской, так как стал студентом-электромехаником индустриального института. Прошло всего две недели учебы, когда неожиданно встретился киевлянин, студент спецфака из Вериной группы по фамилии Карпинский. Он сообщил мне важную новость: наш институт эвакуирован в Ташкент, надо поскорее ехать туда, так как вот-вот начнутся занятия. Сказал, что собирается через два дня отправиться в путь, и предложил составить ему компанию. Ранним утром следующего дня я отправился в облвоенкомат, дождался начала рабочего дня и оказался в каком-то кабинете. Дежурный офицер никак не мог понять, зачем ему моя киевская зачетная книжка, при чем здесь Ташкент и о каком письменном разрешении я прошу, смотрел на меня подозрительно, видимо, сомневаясь, все ли в порядке с моей головой. «Мы студентов вторых курсов пока не берем, можете ехать в свой институт, там встанете на учет. Никаких справок не выдаем. Счастливого пути!» — сказал он, выпроваживая меня из кабинета.
Сборы были недолги, и, если не ошибаюсь, 17 сентября мы с Карпинским разместились на открытой платформе состава со станками, отправлявшегося на восток. Так начался второй этап моего долгого пути в армию.
На этот раз нам предстояло добраться до Ташкента (причем непременно через Куйбышев!). В пути, набравшись опыта, мы быстро угадывали, какой из многочисленных товарных составов, скопившихся на узловых станциях, уйдет первым, где следует его покинуть, чтобы не слишком уклониться от нужного направления, когда можно задержаться ради приема пищи.
В это время железные дороги страны, особенно в ее европейской части, испытывали непомерную нагрузку. В пути находились сотни военных эшелонов, санитарных поездов, составов с оборудованием эвакуируемых промышленных предприятий. Западнее Волги пассажирское движение практически прекратилось. Но в этот же период в пути находились десятки тысяч эвакуированных. Большинство этих людей, измученных многодневной дорогой в товарных вагонах или на открытых платформах, составляли женщины, старики и дети. Выглядели они ужасно: в грязной одежде, неумытые, с потемневшими измятыми лицами и нечесаными головами. Много было завшивленных и больных. А ведь до Урала, Сибири, Средней Азии, куда следовали беженцы, еще было так далеко!
С состраданием смотрели мы на эти несчастные семьи, томившиеся на станциях долгими часами, не зная ни времени отправления состава, в который им удалось где-то погрузиться, ни названия очередной станции. Составы отходили без объявлений. Из-за этого сплошь и рядом сразу после остановки из вагонов высыпали десятки людей и здесь же, рядом с поездом, на глазах многих невольных свидетелей торопливо совершали все свои отправления. Случалось, кто-нибудь бежал к вокзалу, чтобы раздобыть еду, набрать воды или воспользоваться туалетом, а вернувшись, с ужасом обнаруживал, что его состав за это время ушел.
Бесплатное питание эвакуированных на железной дороге осуществляли открывшиеся на всех узловых станциях «эвакопункты». Здесь почти круглосуточно можно было получить несколько порций хлеба, горячей каши, немного сахару, соли, кипяток. Время от времени вместо каши ненадолго появлялся борщ или суп с вермишелью, в которых можно было обнаружить присутствие мяса.
В отличие от большинства эвакуированных мы с Карпинским, молодые крепкие парни, не обремененные ни домашним скарбом, ни тяжелой поклажей, часто меняли составы, успевали раздобыть кой-какую еду и относительно быстро продвигались на восток. Добравшись до Саратова, купили билеты на палубу речного парохода (проезд в каюте был нам не по карману), отправлявшегося вверх по течению Волги. Плыли мы очень медленно, и я успел налюбоваться неповторимыми волжскими пейзажами, о которых столько читал. Почти все многодневное плавание мы страдали от голода, так как второпях сели на пароход без запаса еды. Наконец мы у цели — прибыли в Куйбышев. На привокзальных запасных путях довольно долго искали служебный пассажирский вагон ЮЗ-5.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Прямой наводкой по врагу"
Книги похожие на "Прямой наводкой по врагу" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Исаак Кобылянский - Прямой наводкой по врагу"
Отзывы читателей о книге "Прямой наводкой по врагу", комментарии и мнения людей о произведении.