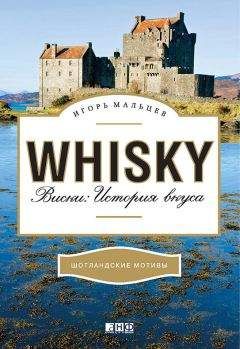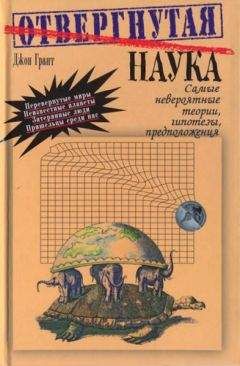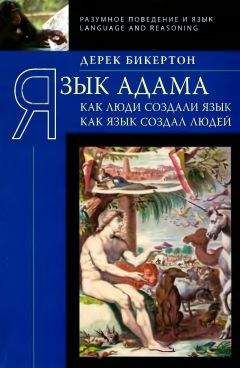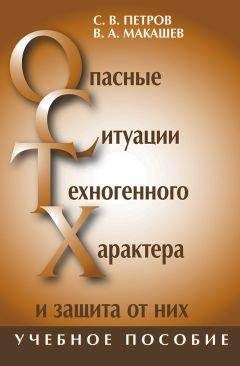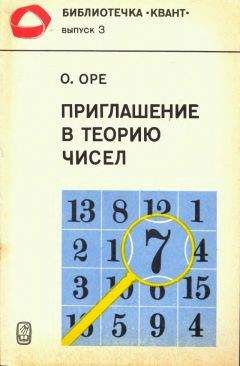Юрий Чумаков - Пушкин. Тютчев: Опыт имманентных рассмотрений

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Пушкин. Тютчев: Опыт имманентных рассмотрений"
Описание и краткое содержание "Пушкин. Тютчев: Опыт имманентных рассмотрений" читать бесплатно онлайн.
В книге рассмотрен ряд текстов Пушкина и Тютчева, взятых вне сравнительно-сопоставительного анализа, с расчетом на их взаимоосвещение. Внимание обращено не только на поэтику, но и на сущностные категории, и в этом случае жанровая принадлежность оказывается приглушенной. Имманентный подход, объединяющий исследование, не мешает самодостаточному прочтению каждой из его частей.
Книга адресована специалистам в области теории и истории русской литературы, преподавателям и студентам-гуманитариям, а также всем интересующимся классической русской поэзией.
(VI, 193)
В тексте Ахматовой читаем:
В хрустале утонуло пламя
«И вино, как отрава, жжет».
(с. 418)
В примечании указывается источник последней строки:
Отчего мои пальцы словно в крови
И вино, как отрава, жжет…
(Новогодняя баллада, с. 440)
В некоторых примечаниях возникает прямая перекличка с «Онегиным». Как известно, у Пушкина в «Онегине» есть так называемые «пропущенные строфы», призванные побуждать читателя к сотворчеству, напрягая его воображение. Как и Пушкин, Ахматова обозначает некоторые строфы римской цифрой и рядами точек, а в примечании пишет: «Пропущенные строфы – подражание Пушкину. См. в "Евгении Онегине": "Смиренно сознаюсь также, что в Дон Жуане есть две выпущенные строфы", – писал Пушкин (примечание 10)» (с. 440).
В стихотворном тексте Ахматовой есть место, где она пишет о похоронах Шелли, и к стихам:
И все жаворонки всего мира
Разрывают бездну эфира
(с. 436)
относится примечание 12: «"Жаворонки" см. знаменитое стихотворение Шелли То the Skulark "К жаворонку"» (с. 440), и приводится кусочек текста. Все это весьма напоминает пушкинскую отсылку к «Рыбакам» Гнедича.
К строке «Ясно все: не ко мне, так к кому же» относится иронический комментарий: «Три «к» выражают замешательство автора» (с. 440). Порой и Пушкин, и Ахматова акцентируют в примечаниях различные возможности развертывания текста (кстати, «Поэма без героя» вообще не существует в окончательной версии, в принципе их можно выбирать). В примечании 40 Пушкин пишет:
В первом издании шестая глава оканчивалась следующим образом:
<… >
В мертвящем упоенье света,
Среди бездушных гордецов,
Среди блистательных глупцов…
(VI, 194)
Окончание «Поэмы без героя» в некоторых версиях таково:
От того, что сделалось прахом,
Обуянная смертным страхом
И отмщения зная срок,
Опустивши глаза сухие
И ломая руки, Россия
Предо мною шла на восток.
Здесь после слова «восток» был знак сноски, и под строкой стояло следующее примечание:
После этого в ряде редакций следовало:
И себе же самой навстречу,
Непреклонно в грозную сечу,
Как из зеркала наяву,
Ураганом с Урала, с Алтая,
Долгу верная, молодая,
Шла Россия спасать Москву.[147]
Иногда примечания Ахматовой подчеркивают условность поэтического текста или сиюминутность его возникновения (и то и другое – типично пушкинские черты). К окончанию строфы
…В черном небе звезды не видно,
Гибель где-то здесь очевидно,
Но беспечна, пряна, бесстыдна
Маскарадная болтовня
(с. 421)
в одном из вариантов было такое примечание: «По совершенно непроверенным слухам в рукописи за этим стихом следовала (…) строфа:
Уверяю, это не ново…
Вы дитя, синьор Казанова…»[148] —
и еще несколько стихов. В другой версии среди черновых вариантов примечание к тому же тексту было иным: «Где-то вокруг этого места (…) бродили еще такие строки, но я не пустила их в основной текст»,[149] – и далее шли те же стихи, которые в других версиях вошли уже в текст первой части.
Некоторые ахматовские черновые примечания пародируют литературоведческий комментарий: «Недавно в одном из ленинградских архивов были обнаружены шесть довольно бессвязных стихотворных строк. Для полноты приведем их здесь:
Полно мне леденеть от страха,
Лучше кликну Чакону Баха,
А за ней войдет человек…
Он не станет мне милым мужем,
Но мы с ним такое заслужим,
Что смутится двадцатый век.
Говорят, после напечатания этих строк автор попросил прекратить дальнейшие поиски пропущенных кусков поэмы, что и было исполнено, но…».[150]
Даже и такие довольно сложные формы «игры с текстом» в какой-то мере предварялись пушкинскими примечаниями. Например, положительное суждение о балетах Дидло в примечании 5 заканчивается так: «Один из наших романтических писателей находил в них гораздо более поэзии, нежели во всей французской литературе» (V, 192).
В черновиках «романтический писатель» назывался: «Сам Пушкин говаривал», «А. П. находит…».
Подобные примеры легко умножить. Но даже и в этих беглых сопоставлениях достаточно явственно проступает структурная и эстетическая функция авторских примечаний к «Евгению Онегину». На фоне предшествующих, сопутствующих и последующих литературных явлений, по контрасту или сходству, вырисовывается, что примечание – важная составляющая связь в композиционной «мозаике» большой лироэпической формы наряду с такою же ролью предисловий, эпиграфов, посвящений, вставок, «пропусков» текста и т. п., и, наконец, примечания как жанровая черта стихотворного романа частично входят в более широкий структурный принцип жанра – столкновение стиха и прозы.
1976
Поэтическое и универсальное в «Евгении Онегине»[151]
Он вечно тот же, вечно новый…
А. С. ПушкинБолее столетия пушкинский роман прочитывали на фоне исторического времени, сопоставляя с различными планами внехудожественной реальности. Затем, уже на наших глазах, возобладал структурный подход, и предметом исследовательского интереса сделался поэтический мир «Евгения Онегина» в его внутренней завершенности. Теперь, видимо, настало время прочесть роман на фоне универсальности, sub specie aeternitatis.[152] Поэтическое и реальное, собственно поэтическое, поэтическое и универсальное – три основных этапа изучения «Онегина», исторически складывающиеся в трехступенчатый коллективный анализ.
Выход к универсальной проблематике уже обозначился в недавних работах С. Г. Бочарова, Ю. М. Лотмана, В. М. Марковича, В. С. Непомнящего, В. Н. Турбина и некоторых других.[153] «В романе Пушкина, – пишет В. М. Маркович, – характер героя образуется соединением конкретно-исторических и универсальных категорий, – сословное и общенародное, эпохальное и вечное составляют в нем синтетическую целостность, причем общечеловеческое и вечное является здесь основой всего…».[154]
Предлагаемый здесь подход к универсалиям «Онегина» основан на попытке установить и описать несколько инвариантов поэтического мира романа. Под инвариантами будем понимать наиболее общие и устойчивые тематические мотивы, выраженные в парном противопоставлении понятий (например, «город» – «деревня»).[155] Затем наполним инвариант конкретным поэтическим материалом романа «Евгений Онегин», обращая внимание на ценностную отмеченность противопоставлений. Если отмеченность неустойчива и свободно передвигается по компонентам инвариантной пары, создавая целостное равновесие и семантическую неопределенность, то такие поэтические инварианты обретают характер символа, а «подлинная символика есть уже выход за пределы чисто художественной стороны произведения».[156] Так эстетическое переходит в универсальное, которое, не поддаваясь дискурсивно-логическому описанию, все же открывается в виде опознавательного переживания.
В качестве инвариантов поэтического мира «Онегина» выберем три пары противопоставлений: «жизнь» – «смерть», «мода» – «старина», «выговаривание» – «умолчание», представляющих, условно говоря, философскую, социальную и коммуникативную сферы внехудожественной реальности. Инвариантность этих пар, кроме их тематической повторяемости, выражается еще и в том, что они сводятся в некую парадигму, которую можно принять за самую постоянную тему как в поэтическом мире романа, так и во всех произведениях Пушкина, взятых в совокупности. Эта основная инвариантная тема формулируется по-разному, хотя и весьма отвлеченно. А. К. Жолковский употребляет формулу «изменчивость» – «неизменность»,[157] М. О. Гершензон предпочитал отношение «неполнота» – «полнота»,[158] а нам более удобна оппозиция «незавершенность» – «завершенность».
Отвлеченность формул не дает основания беспокоиться за их смысловую обедненность и однозначность. В таком произведении, как «Онегин», конкретно названные инварианты – не только понятия. Они, как уже отмечалось, одновременно являются символами, в которые погружаются, свертываясь, все неисчерпаемо разнообразные реалии поэтического мира и из которых они снова развертываются в бесконечный ряд. Кроме того, инварианты вместе со всей их конкретной реализацией еще более семантически обогащаются, проецируясь на множество «разнообразных (соседствующих или взаимонаслаивающихся) структур»,[159] составляющих комплексную структуру «Онегина». Это особо сложное устройство и помогает роману проявлять экспансию на границах поэтического мира, выходя за пределы себя самого.
Теперь обратимся к первой инвариантной паре. Жизнь и смерть – коренные вопросы бытия, всегда актуальные эмпирически и философски, а потому исследование универсальных начал в «Онегине» уместнее начать именно с них. Проблема, разумеется, не раз привлекала внимание пушкинистов, но, как правило, ставилась в общем виде, применительно к миросозерцанию и творчеству Пушкина в целом.[160] Что касается «Онегина», то чаще всего писали о жизненном круговороте в природе и необратимости человеческого существования. Впрочем, В. Н. Турбин однажды обратил внимание на неотмеченность смертей в «Онегине», то есть на то, что их довольно много, но они совершенно незаметны.[161] Проверим это наблюдение, выписывая все места, где упоминается об умерших (за исключением Ленского), в порядке их следования в тексте:
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Пушкин. Тютчев: Опыт имманентных рассмотрений"
Книги похожие на "Пушкин. Тютчев: Опыт имманентных рассмотрений" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Юрий Чумаков - Пушкин. Тютчев: Опыт имманентных рассмотрений"
Отзывы читателей о книге "Пушкин. Тютчев: Опыт имманентных рассмотрений", комментарии и мнения людей о произведении.