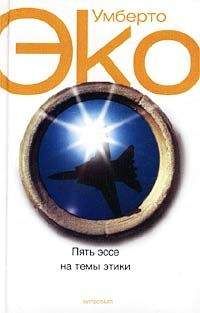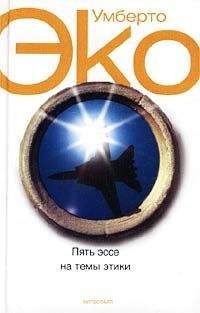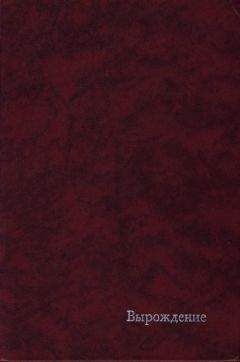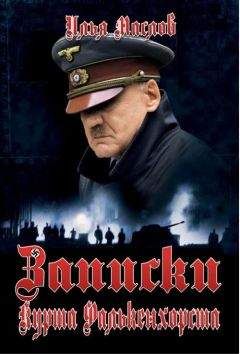Лев Шестов - На весах Иова

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "На весах Иова"
Описание и краткое содержание "На весах Иова" читать бесплатно онлайн.
Первая публикация — Изд-во "Современные записки", Париж, 1929. Печатается по изданию: YMCA-PRESS, Париж, 1975.
"Преодоление самоочевидностей" было опубликовано в журнале "Современные записки" (№ 8, 1921 г., № 9, 1922 г.). "Дерзновения и покорности" было опубликовано в журнале "Современные записки" (№ 13, 1922 г., № 15, 1923 г.). "Сыновья и пасынки времени" было опубликовано в журнале "Современные записки" (№ 25, 1925 г.). "Гефсиманская ночь" было опубликовано в журнале "Современные записки" (№ 19, 1924 г.). "Неистовые речи" было опубликовано в журнале «Версты» (1926 г.). "Что такое истина?" было опубликовано в журнале "Современные записки" (№ 30, 1927 г.).
Стало быть, нужно отвергнуть учение о двоякой истине и вернуться к учению нормального теолога? Ea quæ ex revelatione divina per fidem tenetur, non possunt naturali cognitione esse contraria: истина Откровения и истина, познаваемая естест венным путем, не могут противоречить одна другой. И еще меньше допустимо, чтоб перед лицом какого бы то ни было откровения сам закон противоречия, этот верховный судья над живыми и мертвыми, согласился бы, в каком бы то ни было смысле, поступиться присвоенными им себе — неизвестно когда и за что — суверенными правами.
Но обратимся опять к Плотину. Для Плотина, хотя он и жил в сравнительно позднюю эпоху, когда "свет с Востока" стал доступен всему греко-римскому миру. Библия была, конечно, такая же книга, как и все другие книги: откровения он в ней видеть не мог. Значит это, что для него вопрос о двоякой истине не существовал? Иначе говоря, что он не чувствовал возможности таких источников познания, которые не доступны «естественному» разуму и дают истины, не мирящиеся с истинами, добываемыми нами «естественным» путем?
Уже приведенные в начале слова его говорят нам о другом. Плотин знал истины, которые — хотим мы того или не хотим — приходится назвать откровенными, словом, так мало говорящим современному сознанию и даже возбуждающим в нем крайнюю степень негодования. И — главное — когда ему приходилось выбирать между истинами «откровенными» и истинами «естественными», он, нимало не колеблясь, брал сторону первых: α γαρ ηγειται τίς εΐναι μάλιστα, ταυτα μάλιστα ουκ εστι — т. е. то, что обыкновенному сознанию кажется наиболее существующим, — наименее существует (V, 5, 11). Причем "обыкновенное сознание" — вовсе не есть сознание, свойственное другим людям, толпе, τοις πολλοις, так же как и истины, добываемые обыкновенным сознанием, тоже не суть истины, признаваемые лишь толпой. Нет, сам Плотин, как и все прочие люди, обычно находится во власти этих истин и только временами чувствует в себе силы освободиться от них. "Часто, просыпаясь к самому себе из тела (πολλάκις εγειρόμενος εις εμαυτòν εκ τοϋ σώματος) и отрывая свое внимание от внешних вещей, чтоб сосредоточиться на себе самом, я вижу дивную и великую красоту и убеждаюсь твердо в том, что судьба предназначила меня к чему-то высшему (της κρείττονος μοιρας ειναι); тогда я живу лучшей жизнью, отождествляюсь с богом и, погружаясь в него, достигаю того, что возвышаюсь над всем умопостигаемым…" (IV, 8, 1). Совсем как у Пушкина, который, конечно. Плотина не знал. Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон — он, как и все прочие люди, погружен в заботы суетного света и является (Пушкин выражается сильнее и, нужно думать, более адекватно, чем Плотин) самым ничтожным существом между прочими ничтожными существами нашего мира. И только в те редкие мгновения, когда Божественный глагол касается чуткого слуха поэта, душа его, отяжелевшая в забавах и заботах мира, вдруг, как пробудившийся орел, срывается с места и устремляется к той дивной и непостижимой красоте, которую обыкновенное сознание считает "по преимуществу не существующей".
Когда так говорил Пушкин, мы принимаем его слова за метафору. Или даже, вслед за Аристотелем, повторяем про себя: много лгут поэты. Но Плотин ведь не поэт. Плотин — философ, и, как мы уже знаем, философ, которому даже наша современность отводит лучшее место в Пантеоне великих искателей последних истин. Что же, и о нем сказать — "много лгут"? Или сделать, как это нередко делают с Платоном, — выкорчевать из него все такого рода признания и сохранить только «обоснованные», доказанные положения? И пробуждение, о котором он так часто и так вдохновенно говорит, заменить каким-либо другим, мене е рискованным словом?
IIНесомненно одно: у Плотина, как и у некоторых замечательных представителей средневековья, истина теологическая или истина откровения находится в непримиримой вражде с истиной философской, т. е. научной в обычном значении этого слова. Но тоже несомненно: в противоположность средневековым мыслителям Плотин ни разу не формулировал с желательной ясностью и определенностью свои мысли о взаимоотношении этих двух истин. Он говорит об этом так, как будто тут нет и не может быть никакого вопроса, или как будто бы этот вопрос сам собой разрешался. В VI-й Эннеаде (VI, 9, 3 и 4) он пишет: "каждый раз, когда душа приближается к бесформенному (ανείδεον), она, не будучи в состоянии постичь его, т. к. оно не имеет определенности и не получило точного выражения в отличающем его типе, — бежит от него и боится, что она стоит перед «ничто» (φοβειται μη ουδεν εχη). В присутствии таких вещей она смущается и охотно спускается долу… Главная причина нашей неуверенности (происходит) от того, что постижение одного (т. е. истина откровения) дается нам не научным знанием (επιστήμη) и не размышлением (νόησις), как знание других идеальных предметов (τα αλλα νοητά), но причастием (παρουσία) чем-то высшим, чем знание. Когда душа приобретает научное знание предмета, она удаляется от Единого (т. е. опять же от истины откровенной) и перестает быть Единым: ибо всякое научное знание предполагает основание, а всякое основание — предполагает множественность (λόγος γαρ έπιστήμη, πολλα δε ό λόγος)". Это значит, что Плотин изменяет основному завету его божественного учителя, он отрекается от λόγος'а, становится, в терминах Платона, μισόλογος'ом, ненавистником разума. — Платон ведь учил, что стать мисологосом — величайшее несчастье, какое может приключиться человеку. Да и сам Плотин говорил — и эти слова постоянно повторяли его ученики и последователи: αρχη ουν λόγος και πάντα λόγος — в начале разум, и все разум (III, 2, 15).
Как же, если разум есть начало всего, и все — есть разум, и если величайшее несчастье — отречься от разума и возненавидеть его, как же, спрашивается, мог Плотин столь восторженно воспевать свое «Единое» и последнее с ним соприкосновение? И где был, чего смотрел закон противоречия, тоже αρχη, даже βεβαιωτάτη των αρχων — самое непоколебимое начало?
Думаю, что обойти этот вопрос никак нельзя. И тоже думаю, что новейшие комментаторы Плотина напрасно так усиленно стараются доказать, что Плотин никогда от разума не отрекался и все время, когда размышлял и записывал свои размышления, не сводил глаз с закона противоречия. По-видимому, прозорливее молодых и ближе к истине был старик Целлер. Он не побоялся сказать: "es steht mit der ganzen Richtung des klassischen Denkens im Widerspruch und es ist eine entschiedene Annäherung an die orientalische Geistesweise, wenn Plotin nach dem Vorgange eines Philo das letzte Ziel der Philosophie nur in einer solchen Anschauung des Götlichen zu finden weiss, bei welcher alle Bestimmtheit des Denkens und alle Klarheit des Selbstbewusstseins in mystischer Ekstase verschwindet" (III2, 611).[174] В другом месте Целлер выражается еще сильнее: dem Philosophen (т. е. Плотину) ist das unbedingte Vertrauen zu seinem Denken verloren gegangen (III2, 472).[175] Целлер прав, безусловно прав. Плотин, тот Плотин, который столько раз и так страстно превозносил разум и мышление, потерял доверие к разуму, стал, вопреки завету Платона, мисологосом — ненавистником разума…
Факт значения необычайного. И жаль, страшно жаль, что Целлер, умевший подметить, не захотел вдуматься или повнимательней всмотреться в такое исключительное явление и дает ему шаблонное объяснение ссылкой на влияние Филона и восточных умонастроений! Я не стану здесь касаться вопроса, знал ли Плотин Филона и был ли он посвящен в тайны восточной мудрости. И не потому, что не располагаю достаточным местом, а единственно потому, что считаю этот вопрос праздным и безразличным. Может быть, и знал — но ведь знал он тоже и классическую философию. И еще многое «знал». И знал, конечно, как никто другой, что говорил Платон о μισόλογος'e и Аристотель о законе противоречия, которым одним только и держится всякая ясность и определенность и власть которого, в свою очередь, только и держится отчетливостью и ясностью. Что же могло внушить ему дерзновенную мысль и отказать в повиновении величайшему из самодержцев — βεβαιωτάτη των αρχων? Как решился он, забыв предостережения Платона, обречь себя на жалкое существование μισόλογος'а? Неужели Писания Филона или дошедшие до него изречения восточных мудрецов?
В истории философии такие объяснения очень в ходу. Но, по мне, они были бы уместны только в том случае, если бы история философии ставила себе целью изучать творения бездарных и посредственных философов. У таких, в действительности, прочитанная книга определяет собой многое, даже все. Но говорить по поводу Плотина об идейных влияниях — совершенно недопустимо. «Идеи» Плотина выросли непосредственно из его собственных душевных переживаний, из того, что он своими глазами видел, своими ушами слышал. И если он дерзнул вступить в борьбу с "законом противоречия" или обречь себя на участь μισόλογος'а, то вовсе не потому, что до него кто-то уже такое дерзновение проявил. Тут причины были более глубокие и несравненно более важные.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "На весах Иова"
Книги похожие на "На весах Иова" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Лев Шестов - На весах Иова"
Отзывы читателей о книге "На весах Иова", комментарии и мнения людей о произведении.