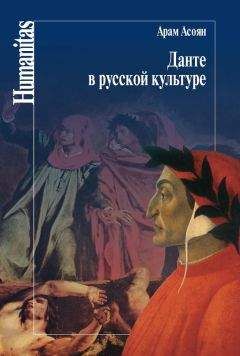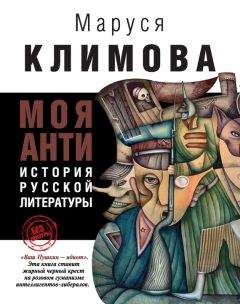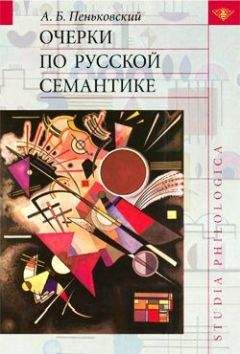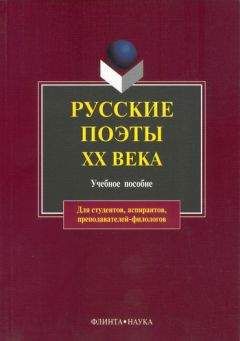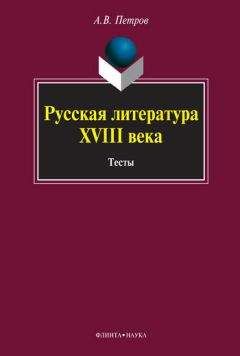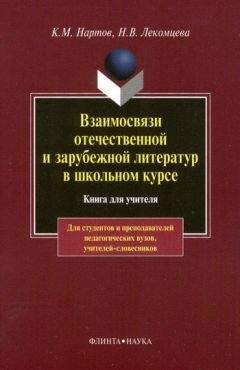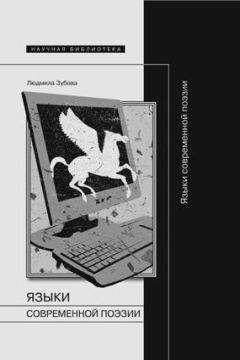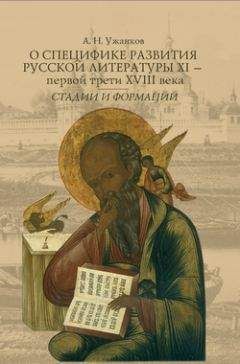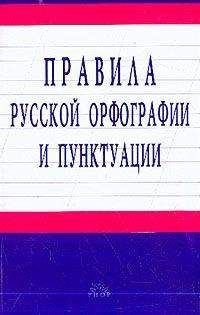Григорий Амелин - Письма о русской поэзии

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Письма о русской поэзии"
Описание и краткое содержание "Письма о русской поэзии" читать бесплатно онлайн.
Данная книга, являющаяся непосредственным продолжением нашей совместной работы: Г. Г. Амелин, В. Я. Мордерер «Миры и столкновенья Осипа Мандельштама» (М.: Языки русской культуры, 2000), посвящена русской поэзии начала XX века. Имманентные анализы преобладают. Однако есть и общая интертекстуальная топика. Три главных героя повествования – Хлебников, Мандельштам и Пастернак – взяты в разрезе некоторых общих тем и глубинных решений, которые объединяют Серебряный век в единое целое, блистательно заканчивающееся на Иосифе Бродском в поэзии и Владимире Набокове в прозе.
«Письма о русской поэзии» рассчитаны на философов, литературоведов и всех, кто интересуется русской поэзией.
И конечно же, сама мелодически-цветовая ось, имевшая в своем живописно-поэтическом зачине певчески-заумное описание лица Христа, – не застывшая гипсовая маска-личина, а переливчатая, изменчивая последовательность мотивов, именуемая Хлебниковым «Звукопись». Потому и в автокомментариях и свободных вариациях на тему «бобэоби» цвета и звуки изменчивы, а не пришпилены намертво с нумерологическими ярлыками-бирками. В его семье звуков свободно варьируются семь нот с семью цветами радуги, о чем он указывает в черновой записи (1919): «Еще Маллармэ и Бодлер говорил о звуковых соответствиях слов и глазах слуховых видений и звуков, у которых есть словарь. В статье «Учитель и ученик» (семь лет) я и дал кое-какое понимание этих соответствий. Б или ярко красный цвет, а потому губы бобэоби, вээоми – синий и потому глаза синие, пииэо – черное» (V, 275–276).
«Лицо» как серия значковсем, заимствованное из древнего знаменного распева, возвращается к своему первоистоку и воскресает после смерти, откликаясь на губной, алый призыв знамен («Биээнзай – аль знамен»). В «Иранской песне» (1921):
И когда знамена оптом
Пронесет толпа, ликуя,
Я проснуся, в землю втоптан,
Пыльным черепом тоскуя. (III, 130)
Лик поэта, как образ Христа, воскресает при пении знамен. В длинном ряду хлебниковских тайнозамкненных текстов есть стихотворение о воскрешении-согревании «усталого и остылого» поэта звукописью-пением, которое прочитывается как любовный заговор:
О, черви земляные,
В барвиночном напитке
Зажгите водяные
Два камня в черной нитке.
Темной славы головня,
Не пустой и не постылый,
Но усталый и остылый,
Я сижу. Согрей меня.
На утесе моих плеч
Пусть лицо не шелохнется,
Но пусть рук поющих речь
Слуха рук моих коснется.
Ведь водою из барвинка
Я узнаю, все узнаю,
Надсмеялась ли косынка,
Что зима, растаяв с края.[28]
Для гадания-заклинания избран экзотический напиток – барвинок, кладбищенский цветок. Именно он обеспечивает живописную палитру, так как по-украински «барвы» – это цвета, краски. Возвращение к жизни из зимней спячки Лица (горение глаз, румянец на щеках) призваны произвести своим проворным пением руки. Утес возродится, и сам запоет, если возлюбленная будет дирижировать. В церковном пении такое управление хором именовалось «хирономией». Так у Мандельштама заставлял жить скалы поэт Андрей Белый (средоточие всего спектра «барв»): «Он дирижировал кавказскими горами…» При всей любовной наполненности хлебниковского текста, для которого даже определен адресат, гадание происходит все же не в пределах «любит – не любит» она меня, а гораздо шире – «кто я такой?» Имя возлюбленной (так и не названное) едва ли не важнейший атрибут магического действа. Ее звали Ксана Богуславская. И смысл гадания все тот же, что и прежде, – «Двойник ли я с небесами?» Богуславская, по сути, заговоренной водой и поющими руками предваряет другой образ – Азии-Магдалины. После ее омовений:
И вновь прошли бы в сердце чувства,
Вдруг зажигая в сердце бой,
И Махавиры, и Заратустры,
И Саваджи, объятого борьбой.
Умерших снов я стал бы современник,
Творя ответы и вопросы,
А ты бы грудой светлых денег
Мне на ноги рассыпала бы косы. (V, 32)
Хлебников непрерывно творит вопросы и ответы, занимаясь настырным самоопределением. В повести «Ка»[29] двойник автора изобретает музыкальный инструмент наподобие примитивной арфы: с помощью слоновьего бивня и струн он ищет связи меж математически-музыкальными упражнениями и хронологией нашествий Востока и Запада. Форма этого чудного музыкального инструмента в точности соответствует выкладкам предшественника – В. Ф. Одоевского, который в своей «Музыкальной грамоте» призывает прилежного читателя почаще заглядывать в таблицу, которую он воспроизводит по старинным рукописям – «Лествицу степеней звуков и расстояний между ними».[30]
По степеням этой лествицы простоты поднимается «заумный» поэт Хлебников, автор «Бобэоби», когда служит обедню, «как волосатый священник с длинною гривой», юной Джульетте-Юлии Самородовой с синими глазами Богородицы:
Песенка – лесенка в сердце другое.
За волосами пастушьей соломы
Глаза пастушески-святые.
Не ты ль на дороге Батыя
Искала людей незнакомых? (V, 67)
Батыева дорога – Млечный путь, вечное местопребывание поэтов: «Я ведь такой же, сорвался я с облака…».[31]
ЗАВЕТ СВИРЕЛИ
Ирине Коневой
– Куда же ты сердце свое простираешь?
– Я его простираю к Раю.
– Но разве об Аде ничего ты не знаешь?
– Нет, не знаю.
Константин БальмонтЯ – уст безвестных разговор…
Борис Пастернак. «Лесное»Пресловутый хлебниковский архаизм во всю процветает свободными словоновшествами. Прошлое, к примеру, очень часто определяется сладостью меда, совсем как в сказочном Лукоморье («И там я был, и мед я пил.»). У Хлебникова мед извлечен, как из улья, из сердцевины слова, становясь пайком для дальнейших языковых окормлений. Приведем полностью стихотворение «Зеленый леший – бух лесиный.» (1912?):
Зеленый леший – бух лесиный
Точил свирель,
Качались дикие осины,
Стенала благостная ель.
Лесным пахучим медом
Помазал кончик дня
И, руку протянув, мне лед дал,
Обманывая меня.
И глаз его – тоски сосулек —
Я не выносил упорный взгляд:
В них что-то просит, что-то сулит
В упор представшего меня.
Вздымались руки-грабли, Качалася кудель
И тела стан в морщинах дряблый,
И синяя видель.
Я был ненароком, спеша,
Мои млады лета,
И, хитро подмигнув, лешак
Толкнул меня: «Туда?» (II, 92)
Одна из тайн лешего задается каламбуром таить/таять. Лесной обманщик таит (скрывает) тоску прошедшего, которое тает, как снег, как ледяные сосульки. Другая тайна – в том кончике дня, которую мажут медом, как и в другом стихотворении, посвященном началу дня, утренней прогулке:
Лапой белой и медвежей
Друг из воздуха помажет
И порыв метели свежий
Отошедшее расскажет.[32]
0 прошлом повествует уже не мед, а белый ледовитый медведь, мажущий лапой. Из какого слова вышли эти подмигивающие тени сказок? Ответ дает гуцульское предание «Ночь в Галиции»:
Вон гуцул сюда идет,
В своей черной безрукавке.
Он живет
На горах с высокой Мавкой.
Люди видели намедни,
Темной ночью на заре,
Это верно и не бредни,
Там на камне-дикаре. (…)
Улыбки нету откровеннее,
Да, ты ужасно привидение. (II, 201–202)
«Кончик дня» – намедни, каламбурно намазанный медом. Но секрет зеленого лешего, его обман заключен не только в таинственности слова «намедни». Неизреченная загадка всегда таится в тающем взоре прошлого, уходящего в воды истории дня, года, эпохи:
Что было – в водах тонет.
И вечерогривы кони,
И утровласа дева,
И нами всхожи севы. (II, 181)
Бух лесиный и есть архаический символ прошлого, напоминание и веселая тоска об ушедшем, потому что Великий Пан не умер, он жив. И пока мы не разгадаем, почему леший назван «бухом лесиным», пока не ответим конкретно и утвердительно на его хитрый с подмигиванием вопрос «Туда?», мы ничего не поймем в хлебниковских текстах.
Так куда спешит юный поэт, в свои младые лета ненароком забредший в сладостно-постанывающий и дикий лес и случайно представший пред чудесным видением? На свидание? Нет. Может быть, на встречу с родной чертовщиной? Тоже вряд ли. Задолго до ернического анекдота о Владимире Ильиче он поспешает, «да, туда» – в библиотеку. Стихотворение Анненского так и называется – «Библиотека»:
Я приходил туда, как в заповедный лес:
Тринадцать старых ламп, железных и овальных,
Там проливали блеск мерцаний погребальных
На вековую пыль забвенья и чудес.
Тревоги тайные мой бедный ум гвоздили,
Казалось, целый мир заснул иль опустел;
Там стали креслами тринадцать мертвых тел.
Тринадцать желтых лиц со стен за мной следили.
Оттуда, помню, раз в оконный переплет
Я видел лешего причудливый полет,
Он извивался весь в усильях бесполезных:
И содрогнулась мысль, почуяв тяжкий плен, —
И пробили часы тринадцать раз железных
Средь запустения проклятых этих стен.[33]
Это вольный, как всегда у Анненского, перевод из книги Мориса Роллина «Неврозы», вошедший в «Тихие песни» (1904). В этом-то и состоит секрет архаичного будетлянина Хлебникова. В перелицовке на гусельно-старинный лад библиотечных богатств, накопленных мировой культурой. Мертвое запустение заповедного леса пыльных фолиантов оживляется и воскресает в лукавых образах славянского лукоморья.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Письма о русской поэзии"
Книги похожие на "Письма о русской поэзии" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Григорий Амелин - Письма о русской поэзии"
Отзывы читателей о книге "Письма о русской поэзии", комментарии и мнения людей о произведении.