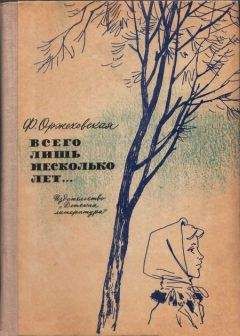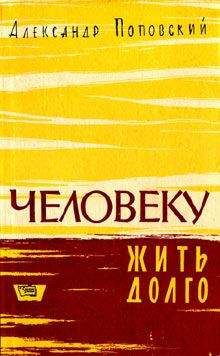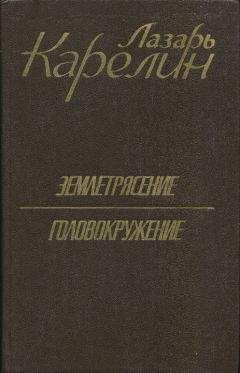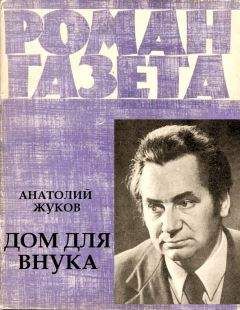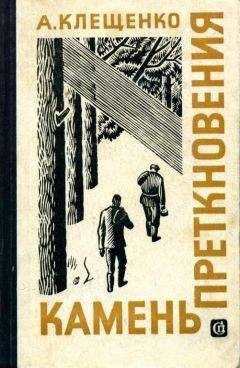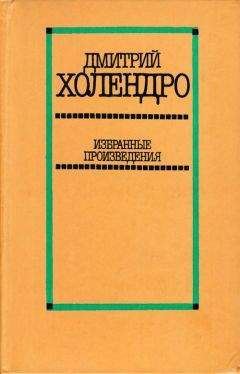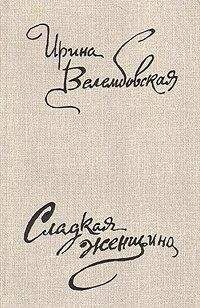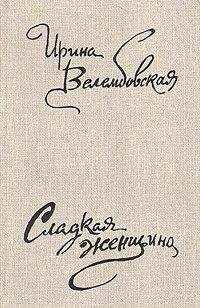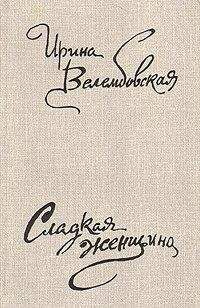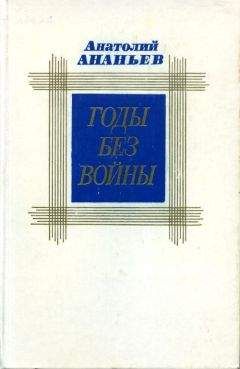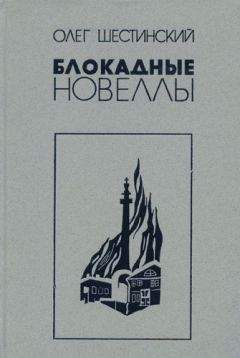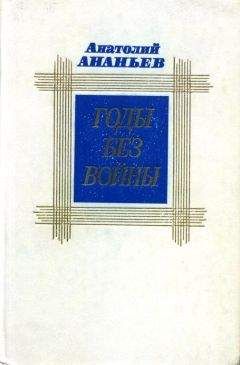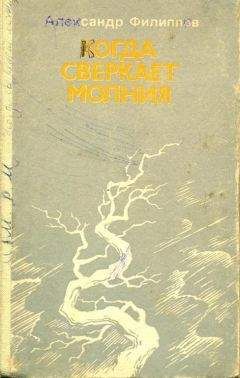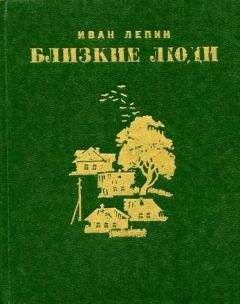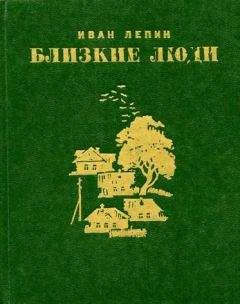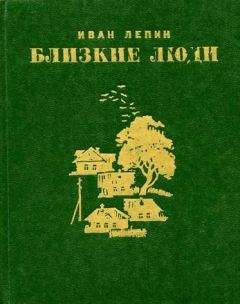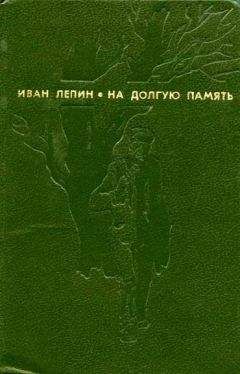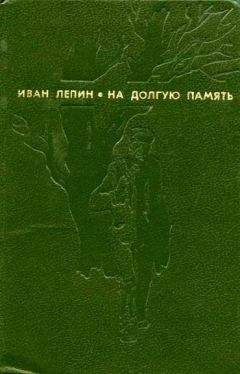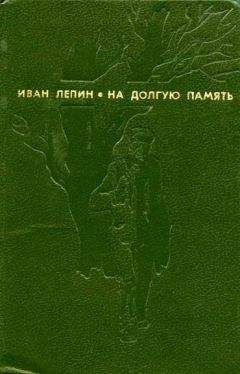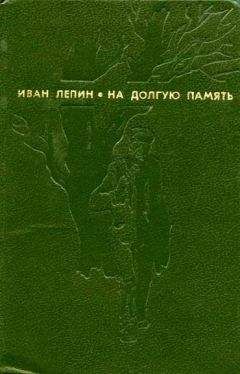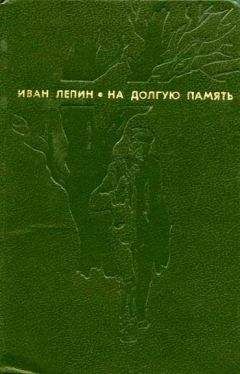Анатолий Ананьев - Версты любви
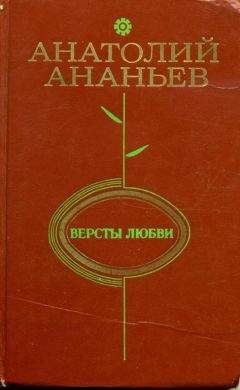
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Версты любви"
Описание и краткое содержание "Версты любви" читать бесплатно онлайн.
В романе «Версты любви» рассказывается о судьбах двух героев — двух наших современников. Судьбы эти сложные, во многом нелегкие, порой драматичные.
Автор затрагивает нравственные и социальные проблемы нашего времени. Герои романа думают о добре и зле, о месте человека в жизни.
Издание третье.
«Куда?» — перебил я Пелагею Карповну, даже чуть подавшись вперед, будто так яснее можно было услышать ответ.
«Куда?.. Не спеши, дело тут непростое. Если бы на суде я начала говорить правду, многих бы еще упекли, а уж Андрея Николаевича первым. Но не могла я ничего сказать. Теперь бы вот, наверное, сказала, а тогда — нет. Как раз накануне суда, когда повестка уже пришла — как свидетельницу меня вызывали, — является под вечер вдруг в избу Ефимка одноногий».
«Это конюх? Понурин?»
«Да. Является и говорит: «Ты, Пелагея, на суде помолчи, а то и тебя упекем, и останется твоя девка сиротою». «Я ничего не видела и ничего не знаю», — говорю. А он: «Вот так и держись, а ежели язык распустишь, то все одно — жизни тебе не будет. Поняла? Вот то-то». Сказал и ушел, а я как во сне хожу, из рук все валится».
«А вас за что?» — опять перебил я.
«Да оно вроде и было за что, да и не было, а страх, он всегда впереди человека бежит. Особенно у нас, женщин. Ну, куда я одна? Кабы Николай (она редко вспоминала о своем погибшем на войне муже, но когда все же вспоминала, говорила всегда с добрым чувством), он бы все решил и рассудил по-мужски, а я что? Подойду к Наташе, спит девка и ничего не знает, а у меня сердце обливается. Так, захолонув, и стояла на суде, словно во рту не язык, а железный колун, — отяжелел, ни шевельнуть им, ни слова сказать не могу. Привезли меня домой ни живую ни мертвую. Не в Долгушино, а сюда, к Наде. Два дня пластом лежала, думала, конец, и уже за тобой, — Пелагея Карповна взглянула на Наташу, — хотела посылать, да обошлось. Вот Надя не даст соврать, — продолжала она, в то время как Надежда Павловна принялась согласно трясти головою. — А началось-то с чего? Помнишь, Алексей, когда ты у нас жил? Прибежал ты однажды утром — в Чигирево еще собирался, за подводой ходил, — гляжу, а на тебе лица нет. Ты-то спрашиваешь: «Имеется ли в Долгушине колхозный амбар?» Я говорю: «Нет», а сама думаю: «Господи, и с чего бы так вдруг? Не к Степану ли Моштакову ходил?» Знать я еще ничего тогда не знала, а догадка-то сразу обожгла, да и смотрю, подался ты пешком в Чигирево. Для чего? Не иначе как узнал что или увидел у Моштаковых. Но я, Алексей, не ходила никуда и никому ничего не говорила про свою догадку, и Наташу в избу загнала, чтобы ничего никому. «Не мое дело, — думаю, — сами разберутся». Думаю и не сплю. Чуть звук какой, вскакиваю: «Едет!» Тебя ждала. Да и другой день все на взгорья смотрела: появишься или нет? Но приехал прежде не ты, а Андрей Николаевич. Никому, конечно, невдомек было, для чего он прикатил; он и раньше приезжал погостить к тестю, может, и теперь так? Люди-то наши к этому привыкли, но я чувствую: не то что-то, и кур, как обычно, не рубят, и пельмени не несут на мороз, да и труба будто не дымит, притихла, а тишина спроста не бывает. Дело к вечеру, а тебя все нет. А как совсем стемнело, стучится ко мне Моштачиха. «Пелагеюшка, — кричит с улицы, с мороза, — зайди на минутку к нам, разговор есть». «Сейчас», — говорю. Оделась, иду; опять, чую, что-то неладно, а все же иду. В избе Андрей Николаевич сидит. Я поклонилась, здороваюсь, как-никак, а почти всю войну председательствовал у нас, а он: «Помнишь?» — «Как же, — говорю, — ежели бы не вы да не Степан Филимонович, дай бог вам здоровья, где бы уже мне Наташу вытянуть, зачахла бы». — «Ну уж не совсем так, — говорит, а сам сидит, ноги вперед вытянул, и по лицу что-то вроде как бегает, то ли бледность, то ли испуг; борется с собою, а говорит без дрожи: — Это мы в память о Николае, хороший у тебя был мужик, работящий колхозник. Но скажи, а за добро платить добром ты умеешь?» — «Да уж Степан Филимоныч не пожалуется, вот он, — говорю, — отчего не умею?» — «А язык за зубами держать?» — спрашивает, а сам щурится. «С детства, — отвечаю, — не была болтливой». — «Тогда, — говорит, — ступай домой, а как нужно будет, разбудим и позовем». Ушла я, прилегла дома на кровать, а заснуть опять не могу. Около полуночи является Моштачиха и только тук-тук в окно и манит пальцем: дескать, собирайся, пойдем. Куда мне деваться? Иду. А там у них во дворе уже сани, запряженные парою коней, стоят, и возле них прохаживается Ефимка одноногий, хрустит по снегу костылем. Кузьма, вижу, мешки с зерном таскает из конюшни и складывает в сани. Ну, я сразу поняла: «Хлеб увозят, прячут». Но назад мне уже хода нет. «Да и что, — про себя говорю, — мне за дело до них, пригласили помочь, вот и пришла, а остальное меня не касается. Что добр старик Моштаков был ко мне, то добр: кому мерку, две, а мне завсегда насыпал, не меряя, не жалел, так чего ж я...» Вошла в конюшню, потом в кладовую и вместе с Моштачихой стала помогать Кузьме и его отцу насыпать зерно в мешки. Сами-то не успевали, вот и пригласили меня. Старик все больше керосиновый фонарь держал, светил да ворчал, чтобы аккуратней, не сорили на пол, а Андрея Николаевича и вовсе не было. Вот так почти до рассвета и ворочали: мы насыпали, Кузьма носил в сани, а Ефимка одноногий к себе увозил. Потом и лари разобрали и тоже увезли, а пол вымели, забросали старой трухлявой соломой и заложили сеном. Тут уж и Андрей Николаевич вышел и взял вилы, потому что не успевали до свету, а на другой день к обеду и вы с Подъяченковым и Старцевым подъехали, да только уже поздно было. Потому-то я и пряталась и не могла смотреть тебе в глаза, знала все, да и жалко было: позорят, а за что? Но сказать ничего не могла».
«Как же вы?! Не понимали разве?» — Я готов был закричать на нее, но сдержал в себе это желание.
«Я ведь и сама себя казню, Алексей, как же не понимала, но и не могла я иначе. Я же и про поленья знала».
«Какие поленья?» — торопливо спросила Наташа.
«Кто швырял?» — уже не в силах сдержать себя, крикнул я.
«Ты и сам мог бы догадаться: у кого березовые дрова на деревне были? Только у бригадира Кузьмы да еще у старого Моштакова. Они каждый год доставали бумагу на сухостой, а мы, сколько я помню, всегда хворост заготавливали, хворостом и топились».
«Кузьма?» — Меня интересовало свое.
«Нет».
«Старик?»
«Нет, Алексей, не они, а сам Андрей Николаевич. После, когда они меня пригласили да посоветовали сжить тебя с дому, так Моштачиха говорила, что швырял Андрей Николаевич. Я говорю: «Убить могли». А она: «Да вот и мой говорил то же, но Андрюша не послушал. Надо, — говорит, — пойти попужать».
«Так они в тебя поленьями? — возмущенно воскликнула Наташа. — Хорошенькое дело: попужать!»
«И это еще не все, — опять не обращая внимания на дочь, продолжала Пелагея Карповна. — Старик-то потом велел оговорить тебя: мол, специально подослан в деревню, чтобы разоблачать всех».
«Кого это всех?»
«В том и дело, что оно будто и некого было, но в то же время, если вглядеться, у каждого хвост в репьях. Ведь так трудно в войну жили, Алексей, и каждый — кто сенца ночью на лугу накосит да и свезет себе во двор, потому что надо же коровенку кормить, кто ботвы или соломы привезет, а кто и кочаны — всякое бывало, так что оговор на почву лег».
«Значит, это вы?!»
«Было, Алексей. Суди, казни, а было. Но я только раз бабам возле сельмага сказала, а в основном Ефимка одноногий крутил».
«Но вы-то, вы!.. — У меня не хватало слов, чтобы высказать все то, что я чувствовал в эту минуту к Пелагее Карповне. Я уже не сидел за столом, а стоял, и впервые тогда начала у меня подергиваться левая бровь (с тех пор, впрочем, так и пошло: чуть поволнуюсь, и потом унять не могу, дергается, и все тут). — Вы хоть чуточку сознаете, что вы натворили, — запинаясь, все же произнес я, хотя надо было говорить не это; ведь потому она и рассказала, что сознавала свою вину. — Вы понимаете, — продолжал я, опять чувствуя, что нет нужных и резких слов, которые следовало бы сейчас бросить и без того сникшей, сгорбившейся (но эта старческая беспомощность не вызывала жалости, а лишь более раздражала меня) Пелагее Карповне. — Вы!.. Вы!..»
Не знаю, что подтолкнуло меня, — может быть, все же понимал, что ссориться ни к чему, что это обидит, оскорбит Наташу и что, главное, прошлое все равно уже не вернешь, — я двинулся к двери, чувствуя лишь одно, что не могу больше оставаться здесь, рядом с Пелагеей Карповной; я видел, как испуганно смотрела на меня Наташа, видел неприятно округлые, как у всех близоруких и слепнущих людей, выцветшие старушечьи глаза Надежды Павловны и видел, выходя из комнаты и захлопывая за собою дверь, все так же неподвижно и виновато-сутуло сидевшую Пелагею Карповну (теперь, знаете, мне временами становится больно за нее; в конце концов, ну что она могла, женщина, когда над всеми нами висела война!), но никто из них ни словом, ни жестом не остановил меня. Во дворе я еще постоял немного, прислушиваясь, не бежит ли за мной Наташа. Я даже не знаю, хотелось ли мне, чтобы выбежала Наташа, или нет; наверное, все же было бы легче, если бы она вышла, хотя неприязнь к матери невольно переносилась и на старую, и уже, по-моему, ничего не смыслившую Надежду Павловну, и на Наташу, на всю эту невысокую и чужую мне деревенскую избу, со двора которой видны были огород, пологий берег Лизухи и дальше пшеничные поля за рекою, лес и синее с белыми, весенними облаками небо; глядя на открывавшуюся до горизонта хлебную даль и, в сущности, не видя и не воспринимая эту прежде удивительно притягательную и умиротворяющую картину, и все еще не соображая, куда и зачем иду, я зашагал по тропинке через огород к реке. Лишь бы подальше от дома, от Пелагеи Карповны, от всего, что я узнал от нее. На том же, как мне кажется, месте, где когда-то сидели веснушчатые рыболовы, я присел на траву у самой воды. Я понимал, что надо успокоиться, и потому говорил себе: «Ну что я вспылил? И для чего она все рассказала? И... что же сломленного в моей жизни, когда я закончил институт и работаю вот в управлении? Не зря же говорят, что худа без добра не бывает. Я еще не знаю, лучше или хуже было бы, если бы я остался в Долгушине. Вечный сорт... — про себя ухмыляясь продолжал я, — вот и все. Да возможен ли вообще этот вечный сорт?» Я как будто рассуждал правильно, и вид пахотной земли за рекою, и тихие всплески воды у ног будто успокаивали, и я уже не был таким злым, как вышел из дому; но на смену первой вспышке негодования явилась та невидимая душевная боль, которую ничто уже — ни годы более или менее счастливой совместной жизни с Наташей, ни успехи по работе или просто удовлетворение от каких-либо удачных командировок, — ничто не могло заглушить во мне. Лишь на время все будто затихало, но вот сейчас, видите, снова все, как открывшаяся рана, сочит и ноет в душе. Как бы хорошо ни складывалась моя жизнь, я все равно не могу забыть Долгушино; а ведь в тот майский день, когда сидел один на берегу Лизухи, все было еще более свежо в памяти, чем теперь. Я смотрел на воду, на поля за рекою и думал о Долгушине; временами как бы вырастал перед глазами старый Моштаков с зажженным фонарем «летучая мышь» в руке, и я будто ясно слышал и усталое дыхание вспотевших женщин — Пелагеи Карповны и Моштачихи, — и шорох сыпавшегося в мешки зерна, или вдруг представлялась сцена, как Андрей Николаевич, перекидывая с руки на руку сучковатое березовое полено (то самое, которое я затем принес с замерзшей реки домой и поставил у крыльца), словно примеряя, достаточно ли тяжело оно или выбрать другое, потяжелее, с привычным для него спокойствием и медлительностью произносил: «Надо, непременно надо попужать», но все эти зримые и, казалось бы, должные захватить внимание картины являлись лишь одной малой составной частью того злого моштаковского мира, который был еще более, чем когда-либо, понятен и ненавистен мне теперь; и мир Пелагеи Карповны (однако я не уверен, что был вполне справедлив тогда к ней), и душевный мир Андрея Николаевича, и мир всех тех мужичков — «мучное брюшко», которые опять как бы топтались с безменами в руках в своих промерзших, с земляными полами сенцах, — все сливалось в одно страшное, как паучьи нити, стянутые в узел, людское зло. «Ну что вот ей, Пелагее Карповне? — думал я. — Моштаков — ладно, но она-то, она!..» Может быть, час, а может, только около получаса просидел я один на берегу Лизухи; почувствовав, что кто-то подошел ко мне и остановился за спиной, я оглянулся и увидел Наташу. Я не знал, разумеется, какой разговор произошел у нее с матерью после того, как я оставил их, — о чем-то, конечно, они говорили, и, наверное, резко, потому что бледное лицо Наташи еще словно жило тем — вовсе не мирно закончившимся — разговором; я заметил это, но ни о чем не стал спрашивать, да и потом не спрашивал, не желая ворошить прошлое, но теперь мне всегда почему-то кажется, что я знал и знаю, о чем они говорили.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Версты любви"
Книги похожие на "Версты любви" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Анатолий Ананьев - Версты любви"
Отзывы читателей о книге "Версты любви", комментарии и мнения людей о произведении.