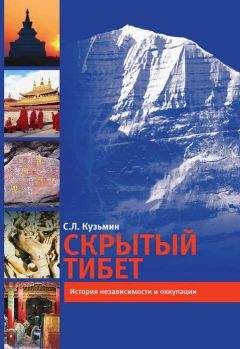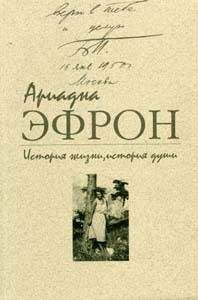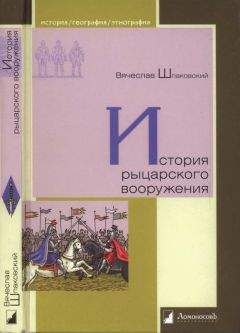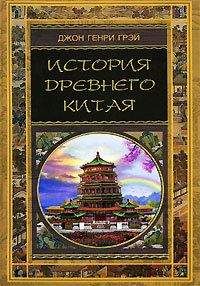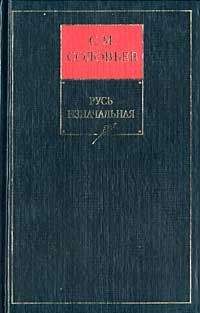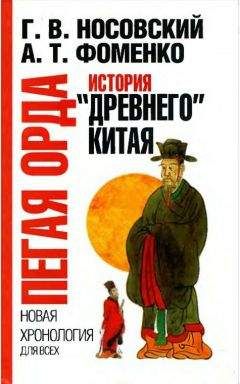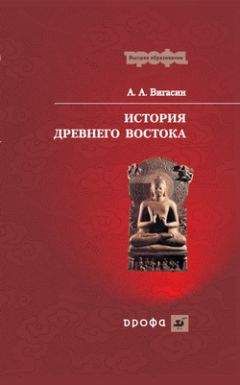Меликсетов - История Китая
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "История Китая"
Описание и краткое содержание "История Китая" читать бесплатно онлайн.
Под редакцией
А. В. Меликсетова
2-е издание,
исправленное и дополненное
Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по историческим специальностям
ЩИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
«ВЫСШАЯ ШКОЛА» 2002
УДК93/99 ББК63.3(5) И89
Авторы учебника:
Л.С. Васильев — гл. I—IV; З.Г. Лапина — гл. V—VIII; А.В. Меликсетов – гл. XIII-XVIII;§ 5 гл. xix, § 3 гл. xx; А^.А.. Писарев — гл. IX-XII,xix (кроме § 5), xx (кроме § 3)
Рецензенты:
кафедра востоковедения МГИМО МИД РФ; доктор исторических наук, профессор А^.А^. Бокщанин; доктор исторических наук, профессор A.M. Григорьев
ИсторияКитая; Учебник / Под редакцией А.В. Мелик-И89сетова. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Изд-во МГУ, Изд-во «Высшая школа», 2002. — 736 с. isbn 5-211-04413-4
В учебнике излагается история Китая с древнейших времен до наших дней. Авторы книги — известные историки-китаеведы, преподаватели кафедры истории Китая ИСАА при МГУ.
Для студентов, изучающих всемирную историю, а также для всех интересующихся историей Китая.
УДК 93/99 ББК 63.3(5)
Учебное издание ИСТОРИЯ КИТАЯ
Под редакцией А.В. Меликсетова
Зав. редакцией Г.М. Степаненко. Редакторы Т.М. Ильенко, Л.В. Кутукова. Переплет художника В.В. Гарбузова. Технический редактор Н.И. Смирнова. Корректоры Г.А. Ярошевская, В.А. Ветров
Изд. лиц. № 040414 от 18.04.97. Подписано в печать 18.12.01. Формат 60 х 9О'/|б– Бумага офсетная № 1. Гарнитура Тайме. Офсетная печать. Усл. печ. л. 46,0. Уч.-изд. л. 47,29. Тираж 3000 экз. Заказ № 5247. Изд. № 6993 Ордена «Знак Почета» Издательство Московского университета 103009, Москва, Б. Никитская ул., 5/7. Тел.: 229-50-91. Факс: 203-66-71. Тел.: 939-33-23 (отдел реализации). E-mail: kdmgu@df.iu В Издательстве МГУ работает служба «КНИГА — ПОЧТОЙ» Тел.: 229-75-41 ФГУП «Издательство "Высшая школа"»,
127994, ГСП-4, Неглинная ул., д. 29/14. Факс: 200-03-01, 200-06-87.
E-mail:[email protected]http: //www.v-shkola.ni
Отпечатано в полном сотгветствии с качеством предоставленных диапозитивов в ОАО «Можайский полиграфический комбинат». 143200, г. Можайск ул. Мира, 93.
ISBN 5—211—04413—4 © Издательство Московского университета, 2002
Предисловие
Огромный интерес российской общественности к прошлому и настоящему нашего великого соседа, его культуре и экономическим успехам, ко всем аспектам его жизни сегодня удовлетворяется публикацией значительного числа книг и статей самой разнообразной тематики. В настоящее время российское китаеведение — одна из наиболее плодотворно работающих отраслей российского востоковедения. Это в полной мере относится и к историкам-китаеведам, за последние годы опубликовавшим книги и статьи почти по всем периодам долгой и непрерывной китайской истории. Однако явно не хватает работ обобщающего характера, которые могли бы претендовать на изложение всей истории нашего великого соседа. Между тем потребность в написании таких книг очевидна. «История Китая» — попытка заполнить пустующую нишу. Авторы книги — историки-китаеведы, в течение многих лет работающие над исследованием разных исторических периодов Китая, что и позволило объединить их усилия для достижения поставленной задачи. В этом смысле написание данной книги — определенное историографическое подытоживание предшествующей исследовательской работы ее авторов.
Будучи преподавателями кафедры истории Китая Института стран Азии и Африки при МГУ, в течение десятилетий читавшими и читающими общие и специальные курсы по истории Китая и истории стран Азии и Африки, участвовавшими в написании многих учебных пособий, авторы предлагаемого вниманию читателя издания накопили немалый педагогический опыт, который послужил основательным фундаментом при работе над данной книгой, которая ставит своей целью дать сводно-обоб-щающее изложение всей истории Китая.
Приступая к работе, авторы понимали всю сложность поставленной перед ними задачи. Речь шла о Китае — стране истории, стране непрерывной культурной традиции, в том числе и традиции историописания. Начиная с глубокой древности, профессионально умелые и старательные чиновники фиксировали на гадательных костях, бронзовых сосудах, бамбуковых планках и шелковых свитках, а затем и на бумаге все то, что они видели и слышали, что происходило вокруг них и заслуживало упоминания.
3
Это поддерживавшееся государством летописание всегда являлось важной составной частью духовной жизни Китая. Первое и титаническое по характеру обобщение такой повседневной историографической работы принадлежит кисти великого китайского историка Сыма Цяня (выходца из семьи потомственных историографов) на рубеже вв. до н.э. Созданная им книга «Шицзи» («Исторические записки», или «Записки историка») — это огромное по объему и глубокое по мысли сочинение, которое стало своего рода образцом, дидактической моделью для исторических исследований в Китае. В последующие два тысячелетия труд Сыма Цяня послужил основой для создания так называемых ди-настийных историй.
Обычно каждая новая династия после своего утверждения на престоле создавала комиссию профессиональных историков, в задачу которых входило написание истории предшествующей династии. Всего таких историй традиционно насчитывается 24. Они составлялись высококвалифицированными специалистами, стремившимися достаточно объективно изложить исторические события предшествующей династии и подвести читателя к выводам, которые должны были подтвердить легитимность правящей династии. Естественно, что доказательство легитимности новой династии подчас требовало новой интерпретации и событий далекого прошлого. В этом случае члены этих комиссий (они все-таки были не просто историками, а чиновниками по ведомству истории!) препарировали в нужном духе исторический материал. Однако это «переписывание» истории происходило при строгом соблюдении накопленной веками конфуцианской этики и дидактики, нравоучительной заданности: история всегда должна была подтверждать, что небесную санкцию на управление Китаем (Поднебесная империя) может получить только тот, кто обладает наивысшей благодатью-добродетелью дэ. Именно обладание дэ и его потеря лежали в основе закономерности движения династийных циклов. Поэтому история, трактуемая в конфуцианском духе, косвенно доказывала, что люди (прежде всего правители) сами определяют судьбу страны и тем самым творят историю. Небо в этом смысле было лишь регулирующе-контроли-рующей инстанцией.
Многовековая работа историков всегда в Китае считалась очень важной и высоко ценилась. Канонические символы (в первую очередь конфуцианские) и исторические труды были главными предметами гуманитарного образования (а традиционный Китай другого образования и не знал), открывавшего дорогу к замещению чиновничьих должностей, повышению социального статуса и росту политического престижа. История при этом воспринима-
4
лась как школа жизни, своего рода собрание поучительн^1х рассказов о деяниях правителей и исторических прецедентах. Апеллирование к истории, к прецеденту, к примеру древних б^зло одним из наиболее весом^1х аргументов в политических спорах имперского Китая. В xix-xx вв. в обращении к истории, к древности искали себе идейную опору реформаторы, да и революционеры обращались к тому же источнику.
Современная китайская историография генетически восходит, что вполне естественно, к своей национальной историографической традиции. Крутой идеологический поворот, связанный с приходом к власти коммунистов и образованием КНР, не отменил важнейшей особенности китайской историографии — она продолжала оставаться официальным, государственным, партийным делом, важным идеологическим и политическим оружием в руках государственно-партийного руководства. Еще до завоевания власти в апреле 1945 г. VII расширенн^тй пленум ЦК КПК (шестого созыва) после серьезного обсуждения принял «Решение по некоторым вопросам истории нашей партии», в котором давалась маоистская версия развития КПК и всего освободительного движения китайского народа. Этот партийн^тй документ на многие годы определил развитие историографии нового Китая. На историческом переломе от утопического коммунизма Мао Цзэдуна к прагматической политике рыночного социализма Дэн Сяопина в июне 1981 г. VI пленум ЦК КПК (одиннадцатого созыва) принял «Решение по некоторым вопросам истории КПК со времени образования КНР», в котором во многом по-новому были осмыслены пути развития китайской революции. Вместе с тем начавшееся с конца 70-х гг. постепенное обновление всей духовной жизни страны сказалось и на современной китайской историографии — в научный оборот вводятся новые источники, складывается критический подход к исследованию некоторых исторических сюжетов, возникают плодотворные различия в трактовке исторического процесса.
Авторы с большим уважением и вниманием относятся к достижениям китайской историографии, стремясь в полной мере использовать их при написании данной книги. Однако при всем этом мы остаемся российскими историками, стремящимися с наших современных позиций понять и истолковать китайскую историю.
Изложить в рамках одной книги многотысячелетнюю историю Китая всегда б^зло весьма трудн^1м и сложн^тм делом. И все-таки, несмотря на ограниченность книжной «территории», мы стремились наполнить ее максимально возможным количеством фактического материала. Цель была в том, чтобы читатель смог найти в
5
этой книге не схематический исторический очерк, но весомо и убедительно продемонстрировать характерные черты и особенности истории китайского общества и государства.
Не менее (а может б^тть, и более) трудной и важной задачей было теоретическое истолкование огромного материала с общих авторского коллектива позиций. ^метим, что авторы книги — едином^тшленники в основн^1х методологических подходах к исследованию китайской истории при всех различиях в тематике их научной и педагогической деятельности. В течение многих лет м^1стремились избежать гнета официальной «пятичленной» форма-ционной концепции, отстаивали свое право рассматривать развитие китайского общества на определенном историческом этапе как «восточное», «азиатское», развивающееся по законам, весьма отличным от тех, которые управляли становлением европейской цивилизации. Отсюда — большое внимание к описанию и анализу традиционных общественных институтов, специфике экономического строя.
Для авторов этой книги духовные условия жизни человека и нормативные традиции, коими он в этой своей жизни руководствуется, имеют первостепенное значение. Поэтому религия, идеология, общественная мысль рассматриваются как не менее существенные факторы исторического развития, чем способы обработки земли или формы землевладения и отношения собственности. В этой связи мы стремились уделить особое внимание проблемам культурного развития, без изучения которых, на наш взгляд, невозможно достаточно глубоко осветить исторический процесс. Так, изучение процессов и результатов «встречи» китайской цивилизации — после «откр^ттия» Китая — западной культурой и проникновение в эту страну европейской «машинной цивилизации» помогают понять особенности генезиса и развития китайского капитализма. Авторы стремились избежать упрощенных подходов в анализе этого взаимодействия и дать реальную картину сложного процесса цивилизационного взаимодействия.
Как нам представляется, большую роль в истолковании развития традиционного Китая играет правильное освещение проблемы династийных циклов. В этом контексте мы пытались во многом по-новому рассмотреть также и историческую роль массовых народных восстаний и выступлений, связанных с острыми социальными проблемами Китая. При исследовании взаимоотношений революционн^1х и реформистских тенденций общественного развития авторы стремились отказаться от априорных оценок, желая показать реальное место этих тенденций в истории Китая. Учит^твая огромную роль утопической традиции, суще-
6
ственно повлиявшей на китайскую политическую культуру, в книге обращено внимание на проблему соотношения утопизма и прагматизма в общественной жизни страны. Крах «реального социализма» позволил более критично и более объективно показать проанализировать и оценить взаимоотношение «китаизированного марксизма» и национализма, борьба между которыми в настоящее время обретает характер экономической и социальной конкуренции между континентальным Китаем (КНР) и Тайванем (Китайская республика). В этой связи развитие Тайваня впервые в нашей историографии рассматривается как интегральная часть истории Китая во второй половине XX в.
Надеемся, что внимательный читатель легко увидит глубокое уважение авторов к нашему великому соседу, его истории и культуре, стремление объективно и доброжелательно понять и истолковать китайскую историю и максимально убедительно донести до российского читателя это прочтение китайской истории.
* * *
Авторы глубоко признательны рецензентам А.Н. Григорьеву, Бокщанину, В.^ Корсуну — известн^тм историкам-китаеведам и опытным преподавателям — за поддержку и ценные профессиональные замечания, которые мы постарались учесть.
Мы благодарна: нашим коллегам К.М. Тертицкому и М.В. Карпову за помощь в подготовке данной книги к изданию, а также И.С. Спириной и Н.П. Чесноковой за внимательное отношение к рукописи нашей книги.
Глава I
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА В КИТАЕ
1. АРХЕОЛОГИЯ О ПРЕДЫСТОРИИ КИТАЯ
Достижения современной антропологии и археологии — вначале преимущественно западной, затем главным образом китайской — позволили вскрыть мощные пласты предыстории Китая. Имеются в виду не те историзованные легенды, коими нас^тще-ны многие древнекитайские источники, начиная с «Книги документов» («Шуцзин»), главы первого (наиболее раннего) слоя которой написаны преимущественно в начале эпохи Чжоу (остальные чуть позже, а затем все они были отредактированы Конфуцием). Об этих легендах будет сказано несколько ниже. Подлинная предыстория начинается с так называемого синантропа, т.е. обнаруженной в районе Пекина разновидности человекообезья-н^1,или архантропа. Найденн^те на рубеже 20—30-х гг. нашего века в пещере Чжоукоудянь костные останки синантропа, и прежде всего его зубы, в частности лопаткообразные резцы, столь обычные для монголоидов, позволили выдвинуть гипотезу, что чжоу-коудяньский синантроп, как и обнаруженные позже близкие к нему ланьтяньский и юаньмоуский архантропы, является прям^тм предком-предшественником китайцев. Гипотеза эта не беспочвенна, но сомнительна (хотя бы потому, что современная физическая антропология все больше склоняется в пользу точки зрения, что синантроп был тупиковой ветвью развития человекообразных и что, следовательно, в происхождении современных сапиентных монголоидов существенную роль должны были сыграть иные предковые линии, возможно смешавшиеся с потомками синантропа). Об этом, в частности, свидетельствуют некоторые явно западные черты и признаки нижнепалеолитической культуры Динцунь, датируемой много позже эпохи синантропа — примерно 200—150 тыс. лет назад.
Процесс сапиентации, как известно, протекал около 40 тыс. лет назад, и потому весьма трудно сказать, какую роль в нем с^тграл динцуньский человек, костн^1х останков которого не б^зло обнаружено (нашли только культурные вещные памятники), не говоря уже о синантропе. Да и протекал этот процесс на Ближнем Востоке, а не в Китае, куда сапиентные люди пришли, судя по находкам археологов, достаточно поздно. Для обеих групп
8
монголоидных неоантропов, т.е. людей сапиентного типа в Китае (череп из Люцзяна на юге и три черепа из Шандиндуна в Чжоу-коудяне на севере), характерна морфологическая нечеткость, а именно сочетание различн^хх расовых черт в разной пропорции — при заметном, однако, преобладании монголоидных.
Учитывая все сказанное, заметим, что даже те признанные специалисты, такие, как К. Кун, например, которые считаются сторонниками аутентичного процесса генезиса монголоидов на территории Китая, вынуждены признать, что о чистоте линий не может идти речи и что в процессе мутаций, которые способствовали трансформации досапиентного монголоида в сапиент-ный тип шандиндунца, б^хл «кто-то еще», кто «вмешался» в этот процесс со стороны, т.е. из числа сапиентных людей, прибывших в Китай извне.
Верхнепалеолитические культуры, характерные для ранних сапиентов, на территории Китая представлены слабо, как и культуры развитого мезолита, пришедшего на смену верхнему палеолиту 14—12 тысячелетий назад. Мезолитический микролит северных степей можно обнаружить на крайних северных рубежах современной территории Китая, а несколько отличный от него в культурном плане юго-восточноазиатский мезолит с его каменными орудиями типа чопперов (орудия из гальки) — на крайнем юге этой территории. Трудно, однако, сказать, какую роль тот и другой сыграли в процессе генезиса китайского неолита.
Дело в том, что неолит — это не просто качественный этап в истории культур каменного века. Это великий исторический рубеж для всего человечества, ибо именно в эпоху так называемой неолитической революции (X—VI тыс. до н.э.) произошел решающий переход от свойственной палеолиту присваивающей экономики собирателей и охотников к производящему хозяйству земледельцев и скотоводов. В этом смысле земледельческий неолит является сложным комплексом взаимосвязанных нововведений и изобретений, включающим в себя окультуривание злаков и иных растений, одомашнивание различных видов животных, а также переход к оседлому образу жизни, изобретение прядения и ткачества, строительство домов и иных сооружений, изготовление сосудов из керамики для хранения и приготовления пищи и т.д. и т.п. Результатами неолитической революции б^хли мощный демографический взрыв, приведший к быстрому распространению неолитических земледельцев по ойкумене, а также появление избыточного продукта, позволяющего в случае нужды иметь запасы или содержать часть общества, не связанную с производством пищи.
9
Как известно, следы неолитической революции в полном ее объеме и на протяжении ряда тысячелетий прослеживаются археологами — в пределах Старого Света — лишь в одном регионе, на Ближнем Востоке. Во всех остальных, тем более в отдаленных районах Старого Света, включая и Китай, неолит появился уже в более или менее сложившемся виде извне. Доказать это, как в случае с Китаем, подчас трудно. Но одно несомненно: неолитической революции типа ближневосточной более нигде не обнаружено, хотя в юго-восточноазиатском регионе прослеживается аналогичный процесс, но не в зерновом, а в клубнеплодном варианте, что резко меняет дело (известно, что к урбанистической, т.е. городской, цивилизации такого рода неолит не привел, оказавшись в Юго-Восточной Азии на достаточно примитивном уровне).
Если оставить в стороне проблему субнеолита, т.е. мезолитических культур, знакомых с отдельными элементами неолита, то первые неолитические культуры появились на территории Китая (комплекс вариантов Яншао в бассейне Хуанхэ и отдельные культуры типа Хэмуду на юге) в виде неолита расписной керамики, который в те времена (V1—V тыс. до н.э.) б^1л уже хорошо известен на Ближнем Востоке. И хотя китайские варианты серии неолита расписной керамики заметно отличались от ближневосточных (основное зерно — чумиза, одомашненное животное — свинья восточно-азиатской породы, иные формы жилищ и некоторые другие важные различия), общим для всех них был неолитический комплекс как таковой, включая и едва ли не наиболее ценное в нем для исследователя — роспись на сосудах. Элементы росписи, стандартные и отражающие духовный мир и мифологические представления неолитического земледельца, в главном и основном были общими и одинаковыми для всех, что явственно свидетельствует о единстве процесса генезиса и распространения по ойкумене неолитического человека с его развитой материальной и духовной культурой. Впрочем, кроме росписи сосудов об этом же единстве свидетельствует и стандартная в главных своих чертах практика захоронения покойников.
Варианты яншаоского неолита бассейна Хуанхэ (Баньпо, Мяо-дигоу, Мацзяяо и др.) хорошо изучены и детально описаны китайскими археологами. Жилища представляют собой в основном квадратные или круглые полуземлянки с жердево-земляным покрытием, небольшим очагом и обращенным к югу входом. Рядом с жилищами — загоны для свиней, амбары для хранения пищи. Поселок состоял из нескольких домов, здесь же были расположены мастерские для изготовления каменных орудий, обжига керамики и т.п. Одно из зданий об^гчно вьщелялось размерами
10
и видимо, было своего рода ритуально-культовым общинным центром, а также, возможно, и местожительством старейшины-первосвященника. Орудия труда из камня (топоры, ножи, тесла, долота, молотки, зернотерки, серпы, песты и т.п.) тщательно обрабатывались и шлифовались. Такие орудия, как шилья, иглы, крючки, наконечники, вкладыши, пилы, ножи, делались из кости. Главным оружием был лук со стрелами. Из камня, кости и раковин изготовлялись и различные украшения. Разнообразной по типу, форме и назначению была керамика, лучшую часть которой составляла расписная, с орнаментальным узором и рисунками, об^тчно нанесенными черной краской по красно-коричневому фону. Захоронения, как правило, располагались неподалеку от поселков, чаще всего с немалым погребальным инвентарем, преимущественно с ориентацией головы покойника на запад.
Культура расписной керамики в форме чаще всего недолговечных (два-три века) поселений просуществовала в бассейне Хуанхэ до рубежа III—II тыс. до н.э., когда она б^зла достаточно резко замещена неолитической культурой черно-серой керамики типа Луншань. Луншаньско-луншаноидн^1й слой позднего неолита с изготовленной на гончарном круге керамикой — уже безо всякой росписи, хотя порой и очень хорошей, иногда с тончайшими стенками, — возник на базе Яншао, но явно под влиянием извне. Влияние это видно в появлении гончарного круга (круг, как и колесо, не изобретались везде и случайно — это разовое кардинального характера изобретение, распространявшееся, как и металлургия, затем по ойкумене), ближневосточных по происхождению нов^1х сортов зерна (пшеница и др.) и пород скота (коза, овца, корова). Кое-что в этом варианте китайского неолита б^]ло весьма специфическим (скапулимантия, т.е. практика гадания на костях; сосуда: типа ли с тремя ножками в виде в^тме-ни), возможно, указ^твающим на развит^тй скотоводческий комплекс; впоследствии так и не прижившийся в земледельческом Китае. Хэнаньский и шэньсийский Луншань, Цицзя и Цинлянь-ган, Давэнькоу и Цюйцзялин — все это различные луншаноид-ные варианты, каждый со своей спецификой, со своими связями. Но все они свидетельствуют о наступлении эпохи позднего неолита, а некоторые, как западная Цицзя (пров. Ганьсу), — и р знакомстве с изделиями из металла. Все новое в луншаноидном комплексе было, скорее всего, результатом культурной диффузии, спорадических импульсов извне, проявлявшихся в виде проникновения в бассейн Хуанхэ различного рода мигрантов.
Нововведения луншаноидного комплекса при всей их значимости не слишком сказались на образе жизни неолитических
11
земледельцев Китая. Как и прежде, жили они главным образом на высоких берегах речных долин в небольших поселках с жилищами яншаоского типа. Занимались в основном мот^1жн^1м земледелием, уделяя некоторое внимание скотоводству, охоте, рыбной ловле и собирательству. Необходимые в хозяйстве изделия ремесла изготовлялись обычно самими крестьянами, хотя уже и возникало специализированное производство, прежде всего изготовление керамики на гончарном круге. Одежда, питание и образ жизни людей были предельно простыми, а законы мотыжного переложного земледелия вынуждали крестьян время от времени (раз в несколько десятилетий) менять местожительство, осваивая новые земли и соответственно основывая новые поселки. Ситуация стала существенно иной лишь с переходом неолитических земледельцев к веку металла.
Появление бронзы в древности обычно шло рука об руку с возникновением урбанистической цивилизации, т.е. со строительством городских центров с их храмами и дворцами. В развитии передовых древних обществ это был принципиальный качественный рубеж, знаменовавший формирование надобщинных (про-тогосударственных) политических образований. Как известно, очень важная для понимания процесса социальной эволюции проблема политогенеза до сих пор, во всяком случае в отечественной историографии, прояснена недостаточно. Однако совершенно очевидно, что для возникновения протогосударственных структур нужны были какие-то существенные предпосылки, важные условия, оптимальное сочетание которых рождалось далеко не везде. Не случайно наука насчитывает лишь очень немного так называемых первичных очагов урбанистической цивилизации, причем и они, эти первичные очаги, обычно были как-то связаны между собой. Одним из таких очагов и б^]л бассейн Хуанхэ.
Заметим, что нормативные принципы организации, свойственные ранним восточным обществам, находившимся на уровне первобытности, но уже знакомым с комплексом развитого неолита, хорошо изучены современной антропологией. Специалистами доказано, что к числу этих принципов относится обязательность эквивалентного (реципрокного) обмена-дара, включая обмен материальн^1х ценностей на престиж, т.е. на подчеркнутое уважение коллектива по отношению к тем, кто способней других и чаще приносит им свою богатую добычу или щедро делится со всеми тем, что имеет. На этой основе эквивалентного взаимообмена складьшалась традиционная система патронажно-клиентных связей, в рамках которой получатели даров и потребители дарованной всем продукции оказывались в зависимости от тех, кто щедрой рукой дарил и давал остальным то, чем обладал.
12
Другим важным нормативным принципом, с особой силой проявившим себя именно в поселениях неолитических земледельцев, где каждое домохозяйство обычно принадлежало большой семейно-клановой группе (отец-патриарх с его женами, младшими братьями и взрослыми сыновьями; жены и дети братьев и сыновей; иногда также прибивавшиеся к группе одинокие аутсайдеры), стала практика централизованной редистри-буции (перераспределения). Ее суть сводилась к тому, что глава группы имел право от имени коллектива распоряжаться всем его совокупным имуществом. Право редистрибуции помогало главе семейно-клановой группы с помощью щедрых раздач имущества группы повышать свой престиж, обзаводиться клиентами и благодаря этому претендовать на выборные должности старейшины общины или его помощников. Именно эти два института обязательный реципрокный взаимообмен и право реди-стрибуции — создали условия для возникновения усложненной структуры общества в виде земледельческой общины с ее выборным руководством.
Земледельческая община стала фундаментом первичных про-тогосударств, появление которых было первым шагом в процессе политогенеза. Первичные протогосударственные образования, формирование которых шло бок о бок со сложением урбанистической цивилизации, возникали отнюдь не везде и лишь при условии сочетания ряда благоприятствовавших этому обстоятельств. Обстоятельства, о которых идет речь, включают в себя климати-ческо-экологический оптимум для земледелия, необходимую демографическую насыщенность данного региона, прежде всего плодородной долины реки, а также высокий уровень производственного потенциала, достигнутый лишь в позднем неолите и в эпоху бронзы. Все эти условия, объективно достаточные для регулярного производства такого количества продуктов, прежде всего пищи, которое позволяет коллективу содержать необходимые для функционирования аппарата администрации и освобожденные от обязательного физического труда по ведению земледельческого хозяйства слои (имеются в виду правитель с его родственниками, чиновники, жрецы, воины, обслуживающие их нужды ремесленники, слуги и рабы), уже существовали в бассейне Хуанхэ в середине II тыс. до н.э. Дворцовые комплексы, представленные, в частности, находками в Эрлитоу и Эрлигане, наглядно свидетельствуют именно об этом.
Эрлитоу-эрлиганский комплекс культурных нововведений не ограничивается строениями дворцового типа. Более важной его характеристикой является бронза, причем не ранняя, но весьма
13
развитая — хорошо выделанные изделия, включая оружие и сосуды с богатым орнаментом. Заметных и явных следов ранней бронзы китайского происхожцения пока не обнаружено. Условно именно эрлитоу-эрлиганскую бронзу считают ранней, но она может считаться таковой лишь по сравнению с пришедшей ей на смену аньянской бронзой, т.е. зрелой, высококачественной, разнообразной и даже в^тчурной. Если же ставить вопрос о технологии и об искусстве бронзолитейного дела, то уже в Эрлитоу то и другое соответствует весьма продвинутому уровню. И несмотря на очевидные особенности бронзолитейного дела, присущие именно китайской бронзе и отличающие ее от западных аналогов, проблема происхожцения металлургии бронзы в Китае остается загадкой. Во всяком случае на базе примитивных и, скорее всего, импортных металлических изделий западной луншаноидной культуры Цицзя за несколько веков, отделяющих Цицзя от Эрлитоу, столь развитая металлургия появиться просто не могла. Нужны были все те же ускоряющие развитие импульсы извне. О существовании такого рода импульсов убедительно свидетельствует аньянский этап развитого бронзового века в Китае, т.е. урбанистическая цивилизации Шан-Инь.
В районе Аньяна, расположенного в средней части бассейна Хуанхэ, чуть к северу от реки (северный край совр. пров. Хэ-нань), археологи в конце 20-х гг. нашего века открыли городище и могильники эпохи развитой бронзы. Раскопки позволили обнаружить огромный архив надписей на гадательных костях, расшифровка которых дала специалистам материал необычайной ценности и, в частности, позволила отождествить обнаруженное городище близ Аньяна (район дер. Сяотунь) с хорошо известным по древним письменным памятникам государством Шан-Инь.
Тексты надписей, содержавшие имена шанских правителей, позволили заключить, что аньянский очаг урбанистической цивилизации просуществовал около двух-трех веков (XIII—XI вв. до н.э.) и являл собой заключительную фазу шанской истории, которая по данным письменных памятников, прежде всего многотомного сочинения Сыма Цяня, незадолго до начала нашей эры написавшего свой огромный труд «Шицзи», просуществовала значительно дольше. Не вполне ясно, можно ли считать эрлитоу-эрлиганский этап ранней фазой Шан; на этот счет существуют разные точки зрения. Но, фиксируя многие черты сходства сложившегося на луншаноидной неолитической основе эрлитоу-эрлиганского комплекса развитой бронзы с аньянским, отметим принципиальное различие между обеими фазами. Оно сводится
14
прежде всего к двум основным элементам — письменности (гадательные надписи) и царским гробницам.
Письмо в аньянском архиве предстает в виде гадательных надписей со многими сотнями идеограмм-иероглифов и хорошо продуманным календарем с циклическими знаками. Раскопки же свыше десятка царских гробниц поразили специалистов неожиданными находками: рядом с царственным покойником и многими сотнями сопровождавших его на тот свет сподвижников, жен и слуг были обнаружены великолепные изделия из бронзы, камня, кости и дерева (оружие, украшения, сосуды с высокохудожественным орнаментом и горельефными изображениями) и, что самое важное, — великолепные боевые колесницы с тонкими и прочными колесами со множеством спиц, а также запряженные в эти колесницы боевые лошади. Ни колесниц, ни повозок, ни просто колес, за исключением гончарного круга, китайский неолит не знал. Не было в неолитическом Китае и одомашненной лошади, не говоря уже о том, что пригодные для колесниц породы лошадей вообще не водились и поныне не водятся в степях Сибири — они были выведены на Ближнем Востоке митаннийцами и хеттами, которые, к слову, изобрели и боевые колесницы, куда запрягались прирученные ими лошади. Обнаруженные археологами в царских гробницах Аньяна колесницы по своему типу являются копией хетто-митаннийских и вообще индоевропейских.
Можно упомянуть также, что значительная часть бронзового оружия шанцев была снабжена украшениями в весьма специфическом, так называемом «зверином стиле» — с изображением животных в позе стремительного рывка, широко распространенном в зоне сибирских и евроазиатских степей. Сказанного вполне достаточно для обоснованного вывода о том, что нововведения аньянской фазы шанской урбанистической цивилизации не были результатом только автохтонного развития неолитических земледельческих племен луншаньско-луншаноидного круга и пришедших им на смену ранних протогосударственных структур эрлитоу-эрлиганского комплекса бронзового века. По меньшей мере частично элементы аньянского комплекса появились в Китае откуда-то извне. Что касается колесниц и лошадей, то здесь все достаточно ясно. Вопрос лишь в том, как, каким образом индоевропейского типа боевые колесницы (не говоря уже о лошадях) появились в средней части бассейна Хуанхэ — если принять во внимание, что следов колесниц к востоку от Алтая (да и там, скорее, были телеги, чем колесницы) археологами пока не обнаружено.
15
2. ПРОТОГОСУДАРСТВО ШАН
Как уже упоминалось, для возникновения надобщинных политических структур (протогосударств) необходим был комплекс сопутствовавших этому условий нормативно-институционального и природно-производственного характера. При этом первичные протогосударственные образования обычно возникали одновременно с элементами урбанистической цивилизации, т.е. в зонах, где складывались условия для развитого урбанизма. Одной из таких зон и был бассейн Хуанхэ, где сложилось протогосудар-ство Шан.
Прежде чем приступить к характеристике шанского общества и его культуры, необходимо обратить внимание еще на некоторые нормативные институты, выявленные в процессе изучения достижений современной антропологии. Первый из них — феномен власти-собственности. Суть его, тесно связанная с реци-прокным взаимообменом и централизованной редистрибуцией, сводится к праву верховного правителя надобщинного коллектива распоряжаться всем его достоянием как бы от его имени и в его интересах. Это право основано не на собственности — собственности как таковой общество, о котором идет речь, не знает, — оно основано только на власти правителя. Высшая власть, нередко и осознанно сакрализованная (носитель ее приравнивается к божеству или сыну божества), именно в силу специфики позиции ее носителя, ставшего над коллективом, обретает права и прерогативы верховного собственника. Вначале власть порождает представление и понятие о собственности в ее наиболее понятном коллективу смысле — собственности всеобщей, коллективной, распоряжается которой от имени коллектива сакрализо-ванный его правитель. Это и есть феномен власти-собственности в обществе, уже знакомом с властью, но еще незнакомом с собственностью, тем более частной. Существенно заметить, что К. Маркс, стремившийся разобраться в сущности структуры восточных обществ, одним из первых обратил внимание на то, что отсутствие частной собственности — ключ к восточному Небу. Руководствуясь этим, он выдвинул, как известно, идею о существовании особого «азиатского» способа производства, суть которого в его понимании как раз и сводилась к противостоянию аппарата власти во главе с верховным собственником («восточным деспотом») коллективам земледельческих общин. Идеи Маркса об «азиатском» («государственном») способе производства вписываются в современные представления о Востоке, излагаемые в нашей книге, опирающейся в этом смысле на фундамент современной антропологии.
16
Второй нормативный институт, о котором необходимо упомянуть, приступая к характеристике Шан, — это процесс триба-лизации (от лат. triba — «племя»). Современная наука использует понятие «племя» только для обозначения структурированной эт-нополитической общности, т.е. этнической группы, имеющей вождя. Неструктурированную стоит именовать просто этнической общностью. Этническая общность рождает племя или группу родственных племен в процессе трибализации. Что касается сущности этого процесса, то следует заметить, что он не возникает сам собой, но является результатом контакта данной этнической общности с уже существующим в зоне той либо иной урбанистической цивилизации государственным образованием, по образу которого как раз и структурируется племя, причем для этого не обязательно наличие элементов урбанизма. Существование в формирующемся племени вождя и некоторых его помощников уже является достаточной основой для последующей его эволюции в направлении к более развитым институтам государственности.
Теперь, обратив внимание на проблемы власти-собственности и трибализации, попытаемся проанализировать государственность Шан и взаимоотношения шанцев с их соседями, а также выяснить, кем были шанцы, откуда они появились в бассейне Хуанхэ. Начнем с характеристики их расового типа. Хотя среди многочисленных изображений человека (в основном на бронзе) встречаются различные расовые типы, включая европеоидов, шанцы в массе своей были монголоидами, что относится и к хозяевам царских гробниц, т.е. к правителям. Загадка индоевропейских по типу боевых колесниц с одомашненными на Ближнем Востоке лошадьми, имеющая самое непосредственное отношение к шанской аристократии (как-никак, а колесницы с лошадьми обнаружены в основном в царских гробницах), остается неразгаданной.
Напомним, однако, что к западу от бассейна Хуанхэ в эпоху Шан жило индоевропейское племя тохаров. Известный исследователь тохаров Э. Паллиблэнк еще в 1966 г. предположил, что это племя могло сыграть посредническую роль в проникновении в Китай элементов урбанистической цивилизации. Кроме того, некоторые лингвисты находят очевидные параллели между ранне-чжоуским языком и индоевропейским (сравнить с шанским языком невозможно — от Шан сохранились лишь надписи на костях; только чжоуский текст канонической книги песен «Шицзин» с его рифмами помог шведскому синологу Б. Карлгрену совершить великое открытие — расшифровать звучание раннечжоус-ких иероглифов), а специалисты широкого плана, включая виднейшего историка китайской культуры Д. Нидэма, обнаруживают
17
впечатляющие параллели в календарно-астрономических и астрологических традициях шанско-чжоуского Китая и Ближнего Востока. Тем не менее факт остается фактом: в шанском протого-сударстве жили преимущественно (если даже не исключительно) монголоиды, к тому же многими корнями связанные с неолитом бассейна Хуанхэ. Можно напомнить, что в процессе метисации монголоидный тип оказ^твается, как правило, сильнее европеоидного, что хорошо видно и в наши дни. Если учесть, что гипотетическая внешняя примесь европеоидов в Шан б^зла в любом случае крайне небольшой и никак не может в этом плане быть сопоставлена, скажем, с ариями, которые прибывали в бассейн Ганга многочисленн^тми волнами и к тому же хорошо защищали свой расовый тип варно-кастовыми брачными запретами, то есть основания предположить, что многочисленные мигранты сравнительно быстро и безболезненно были ассимилированы без остатка, причем об этом не сохранилось даже воспоминаний (это было связано с феноменом исторической амнезии шанцев, о котором будет идти речь чуть ниже).
Если не считать дворцов, то в основном шанцы жили в таких же хижинах-полуземлянках, что и их предшественники, насельники культур китайского неолита. Что касается шанских — это относится и к эрлитоу-эрлиганским — дворцов и городских стен, то они отличались от ближневосточн^1х, изготовлявшихся из камня и кирпича. Делали их методом хан-ту: уплотнявшиеся каменными пестами слои земли или глины, ограниченные в ширину дощатыми переборками, ряд за рядом — по высыхании — клали друг на друга. Создавалась толстая глиняно-земляная стена, снаружи напоминающая кирпичную кладку. Стену, видимо, чем-то крепили — она была достаточно прочной и кое-где сохранилась до наших дней, что и позволило археологам обнаружить остатки фундаментов строений и стен. Сходство с кирпичом, пусть внешнее, наводит на аналогии с ближневосточной древностью, где кирпичная кладка господствовала. Но кирпича шанц^:, однако, не знали. Хан-ту — его функциональная замена.
Ближневосточные по происхождению злаки — пшеница, ячмень (знакомые, видимо, уже и луншаньцам), а также бобы, фасоль, конопля, различные овощи и фрукты, не говоря уже о чумизе, были хорошо известны шанцам. Но они знали и то, что в те времена не знал еще никто в мире, — имеется в виду шелководство, уникальное китайское изобретение. Из домашних животных, насколько можно судить по надписям, преобладали свинья и собака, но встречались также коровы и лошади, овцы и козы, куры, утки и гуси. Возможно, водились и прирученные слоны. Среди диких животн^1х, объектов охоты, б^зли кабаны,
18
олени, тигры. Много ловили рыбы и дичи. В пищу употребляли грибы, ягоды, коренья и травы. В земледелии господствовал ручной труд с использованием преимущественно деревянных орудий (мотыги, серпы и т.п.) с каменными вкладышами или рабочими частями. Особое внимание уделялось охоте, имевшей помимо прочего ритуальное и прикладное значение (тренировка для воинов). Именно здесь, как, впрочем, и в военных походах, применялись боевое оружие из бронзы и колесницы.
Достаточно развитым было ремесло, включая строительство. Сохранились остатки специализированных мастерских — керамических, камнерезных, бронзолитейньгх и иных. Мастера-ремесленники имели очень высокую квалификацию, о чем свидетельствуют орнаменты на изделиях из бронзы или камня, и иные, тонкие изделия, украшения, символические изображения. Бронза, колесницы, шелковые одежды — вот конкретные свидетельства высочайшего уровня шанского ремесла. Этот уровень, естественно, был достигнут лишь в дворцовых мастерских. Быт простых земледельцев мало чем отличался от того, что было достигнуто земледельцами неолита несколькими тысячелетиями ранее, будь то строения, орудия труда, хозяйственные поделки, одежда, украшения и т.п.
Вообще принципиальное различие между правящими верхами с их окружением (аппарат администрации, ремесленники, воины, слуги) и производящими крестьянскими массами представлено в реалиях общества Шан выпукло и зримо. Но эта разница была лишена расового или этнокультурного оттенка, который преобладал во взаимоотношениях между пришлыми индоариями и аборигенным населением в бассейне Ганга приблизительно в то же время. Напротив, она была преимущественно социальной и административно-политической, зачатки которой формировались по меньшей мере с эрлитоу-эрлиганской фазы с ее дворцами самых ранних на территории Китая правителей протогосударствен-ных образований, пусть еще и очень небольших и неразвитых. Аньянская фаза Шан демонстрирует эту разницу уже очень четко и последовательно, что свидетельствует как об уровне развития общества, так и о стандарте цивилизации, намного превосходящем тот, что был свойствен эрлитоу-эрлиганской фазе. Перед нами, судя по надписям и археологическим раскопкам, — сложное составное протогосударство, административно подразделявшееся на структурно неодинаковые части.
Первая и главная из них — зона с центром в столице, которая находилась под непосредственным управлением правителя-вана и центральной администрации Шан. Трудно утверждать, что именно аньянское городище и было столицей, здесь есть определенные
19
сомнения. Но в любом случае аньянское городище было частью столичной зоны, радиус которой измерялся, видимо, несколькими десятками километров. В центре зоны жили ван и его приближенные, воины и чиновники, ремесленники и слуги. Здесь располагались дворцы и мастерские, амбары и склады, казармы и поля, прежде всего «большие поля», о которых не раз упоминалось в гадательных надписях. В работе на больших полях нередко принимали участие ван и его приближенные, а урожай предназначался как для ритуально-культовых нужд, так и для пополнения казенных амбаров. Насколько можно судить по данным надписей (гадали, не приказать ли чиновникам сяожэнь призвать крестьян чжун на поля), обрабатывали эти поля приходившие специально для этого крестьяне окрестных поселений. Археологи при раскопках в районе Аньяна обнаружили склад из 3,5 тыс. серпов, что подтверждает существование больших полей (крестьяне получали казенные серпы для сбора урожая). Можно думать, что зона больших полей и мелких крестьянских хозяйств, вокруг столицы вана обрамлялась зоной охотничьих угодий, т.е. нетронутой природы, территориально как бы отделявшей эту зону от следующей.
Вторая зона — обширная территория региональных владений, управлявшихся уполномоченными шанского вана, его родственниками и приближенными. Это была зона вассалов вана, о чем в надписях немало упоминаний. Владений насчитывалось несколько десятков, может быть сотня-две. Если судить по количеству титулованной знати, упомянутой в надписях, — 35 хоу, 40 бо, 64 фу, 53 цзы и еще некоторое количество тянь и нань, то всего б^хло около 200 владений, каждое со своим клановым именем и поселениями, о создании которых, часто по специальному указу вана, говорится в надписях. В крупных владениях количество поселений могло, видимо, исчисляться десятками, так что они практически представляли собой небольшие протогосударства, входившие в состав Шан. Их территория, скорее всего, б^хла нестабильной как за счет естественных для полуавтономных образований такого рода междоусобиц, так и вследствие постоянной тенденции к расширению их за счет захвата новых земель.
О второй зоне по сравнению со столичной известно сравнительно мало, надписи чаще всего говорят о военных походах через то или иное владение и о набегах варварских соседних племен на их территории. Видимо, вторая зона в целом была периферией Шан, более или менее надежно прикрывавшей столицу вана от набегов извне. Обе зоны, населенные шанцами, ограничивались сравнительно небольшим пространством (круг или эллипс с диаметром примерно в 150 км) в северной и центральной части
20
совр. пров. Хэнань, а число шанцев равнялось вначале примерно 150—200 тыс. За обеими зонами, которые, если следовать поздней китайской традиции, можно бы именовать внутренним поясом нэй-фу, располагалась аморфная третья зона, населенная чуждыми Шан племенами (внешний пояс вай-фу).
Судя по надписям, войны с племенами третьей зоны практически не прекращались. Служба вану, выполнение «дела вана», — главная обязанность всех его вассалов из второй зоны региональных владений. Причем кроме собственно военных действий и отражения нападений выполнение «дела вана» включало в себя и поднесение подарков, трофеев, прежде всего пленных, которых чаще всего приносили в жертву предкам вана при очередной календарной дате жертвоприношений. Такого рода жертвы обычно исчислялись сотнями, о чем опять-таки часто упоминают надписи. Однако соседние племена не только воевали с шанцами, но и перенимали у них немало ценных цивилизационных нововведений. Регулярные контакты с Шан резко ускоряли шедший в них процесс трибализации, что вело к структурированию и соответственно к укреплению этих племен, по крайней мере наиболее энергичных из них, каким было, например, племя чжоусцев. Стоит заметить также, что взаимоотношения региональных правителей из числа шанцев с окружавшими их нешанскими племенами отнюдь не всегда бывали враждебными. Они могли быть и союзническими, особенно когда речь шла о междоусобных войнах между самими враждующими друг с другом правителями. Но, несмотря на это, служба вану, этноцентрический импульс и координирующая роль центра всегда преобладали над сиюминутными интересами ведших междоусобицы властителей. Высший суверенитет и сакральная святость шанского правителя-вана были для всех шанцев превыше всего.
Правитель-ван, возглавлявший шанцев (заметим, что только этим именем они именовали себя, свой город и свое государство — термин инь стал прилагаться к обозначению шанцев и Шан позже, лишь чжоусцами), был, как можно судить по данным надписей, одновременно и первосвященником. Именно он исполнял торжественные ритуалы в честь покойных предков ди или шан-ди (ди, шан-ди — это живущие наверху, т.е. на небе). Своей персоной он символизировал, как то обычно бывало на сходной ступени развития едва ли не во всех протогосударствах, сакральное единство всей шанской общности. Более того, именно он и только он один («Я, Единственный» — обозначал себя ван в надписях) выступал в качестве посредника между миром живых его соплеменников и умершими обожествленными предками — ди. Об их высшей святости и неоспоримом могуществе можно судить прежде
21
всего из не раз уже упоминавшихся надписей, в котор^1х шан-ди оповещаются обо всем, что происходит на земле с их потомками, а те обращаются к ним за советом и содействием по любому поводу, будь то урожай, война или благополучное разрешение от бремени супруги вана.
Практика наследования должности правителя-вана находилась еще в процессе становления. Со времен У Дина (конец XIII в. до н.э. — надписи и вообще аньянская фаза начинается с его правления) до У И (нач. XI в. до н.э.) должность вана передавалась не от отца к сыну, но от брата к брату либо от дяди к племяннику с учетом старшинства и поколения, возможно также, с элементами уходящей в прошлое традиции выбора. Только с У И стала нормой передача власти от отца к сыну, что свидетельствовало о победе в доме вана принципа конического клана с его главной, основной и множеством боков^1х, коллатеральн^1х линий. Заслуживает внимания и то обстоятельство, что в поздних надписях появляются названия нескольких кланов, близких к дому вана, — Доцзы-цзу (клан с^тновей ванов), а также Сань-цзу и У-цзу (клан^: профессиональн^1х воинских дружин). Можно предположить, что в конце эпохи Шан возникали и иные кланы, в том числе и профессионалов-ремесленников. Об аристократических кланах в шанских региональных владениях уже упоминалось.
Конический клан, клановая структура как таковая, окончательное упрочение новой системы наследования в доме вана — все это свидетельствовало о завершении развития социальной структуры Шан на позднем этапе существования шанского общества. Усовершенствована бьша и административная структура. Обращая внимание на функции носителей должностей, степень их близости верхам и иные факторы, можно выделить три ее основные категории: высшие администраторы (сановники и советники, причастные к принятию важных и ответственных решений); низшие чиновники-распорядители (посредники и ведавшие учетом канцеляристы); лица, отвечавшие за военную подготовку и охоту (к последней категории кроме собственно военных следует отнести оружейников, колесничих, конюших, псарей и т.п.).
Содержался весь этот немалый аппарат власти — речь идет только о столичной зоне, которая представлена в материалах надписей, — за счет, как следует полагать, урожая с тех самых больших полей, которые обрабатывались привлекавшимися для этого из пригородных районов земледельцами-чжун. Судя по всему, урожай с этих полей был рентой-налогом с обрабатывавших их земледельцев — не исключено, что для этого по жребию или по очереди выделялись общинники из пригородных поселений, находившихся под властью вана и входивших в столичную зону. Этот
22
урожай был тем самым избыточным продуктом, без наличия ко-орого протогосударство как таковое не могло бы возникнуть и существовать. Редистрибуцией этого продукта, как и всего прочего (прежде всего ремесленного), занималась администрация столичной зоны, во всяком случае представители двух первых ее категорий. Обе они, как и третья, не говоря уже о самом ване, его семье и челяди, существовали главным образом за счет этого продукта, все остальное лишь немногое добавляло к главному — урожаю с больших полей столичной зоны.
Мало, практически вовсе нет сведений в гадательных надписях о бытовой и хозяйственной культуре земледельцев, о крестьянской общине. Можно почти с полной уверенностью считать, что шанская община как таковая существовала, что именно ее представители, — а не чужеземцы, наемники либо неполноправные, как это нередко бывало с храмовыми землями на Ближнем Востоке, — обрабатывали поля, используя казенные орудия. Эта уверенность основана на следующем. Во-первых, в надписях нет ни слова о чужеземцах и неполноправных, не говоря уже о рабах или наемниках, которые могли иметь отношение к обработке земли. На земле работали шанские крестьяне-чжун, полноправные общинники. Чужеземцы же из числа пленников, о которых много говорится в надписях, в лучшем случае могли использоваться (пока не подошел день очередного торжественного принесения их в жертву в честь того или иного предка) на тяжелых работах, например по расчистке земли для пашни. Во-вторых, поселения-и, исчислявшиеся в Шан, судя по надписям, сотнями, — это, скорей всего, и были общины. Во всяком случае специальный анализ термина «и» позволяет сделать такое предположение, не говоря уже о том, что с начала эпохи Чжоу об общине земледельцев есть много материалов и существование ее не может быть подвергнуто сомнению. Впрочем, тем же знаком «и» (поселение) обозначались и столичный центр, и другие шанские города, в первую очередь центры региональных подразделений, структура которых была более сложной, чем у обычной деревенской крестьянской общины.
Обращает на себя внимание специфика духовной культуры и мировоззрения шанцев. Традиционное первобытное мифологическое мышление, столь ярко и явственно проявлявшее себя в расписной керамике Яншао, в период господства луншаньско-луншаноидной серии культур, видимо, стало приходить в упадок, о чем можно судить по характеру археологических находок (отсутствуют свидетельства о существовании сколько-нибудь заметной мифологии). На стадии раннего бронзового века (фаза Эрлитоу-Эрлиган) следов культовой практики и мифологического
23
мышления также обнаружено крайне немного — нет изображений божеств или героев, остатков культовых сооружений. Разумеется, нельзя утверждать, что ничего подобного в представлениях про-тошанцев не было вовсе. Речь идет о том, сколь незначительное место оно занимало, особенно если сравнить предшанский Китай (Эрлитоу-Эрлиган) с самыми ранними протогосударствен-ными образованиями на Ближнем Востоке, в Индии или Америке, где культу богов и героев, многочисленным мифическим сказаниям и изображениям отводилось бесспорное центральное место в изделиях, обнаруживаемых археологами, как и во всей бытовой и праздничной культуре народов.
Аньянский этап явился еще одним важным шагом, очередной ступенью в развитии теперь уже шанской духовной культуры в этом же направлении. Роль божеств, во всяком случае наиболее признанных и уважаемых, играли умершие предки правителей. О героях говорить не приходится — о них нет данных, как нет (или крайне мало) и мифологических сюжетов в многочисленных изображениях. Наконец, что весьма существенно, отсутствуют храмы и храмовые комплексы, вместо них — храмы-алтари в честь все тех же умерших предков-ди, шан-ди. В надписях вместо сведений о богах фиксируется существование «сверхъестественных» природных сил (дождь, ветер, гора, река). Причем шанцы поклонялись и приносили жертвы не столько обожествленным духам природных сил, сколько самим этим грозным силам как таковым, которые, как им казалось, следовало задобрить, дабы избежать неприятностей. И это в то время, когда аньянская фаза продемонстрировала резкий качественный скачок во многих важных сферах не только материальной, но и духовной культуры. И хотя некоторые мифологические мотивы были запечатлены в круглой каменной шанской скульптуре, в резьбе и орнаменте на бронзовых сосудах, в целом мифология в аньянской культуре Шан занимала на удивление незначительное место. Ритуалы и религиозные верования, культы и мировоззренческие представления были до предела демифологизированными. Явственно преобладал рационализированный ритуал, ярче всего проявлявшийся во взаимоотношениях с обожествленными предками-ди: мы — вам (уважение), вы — нам (заботу и поддержку). Очень важную роль играл ритуальный церемониал. То и другое свидетельствовало об определенной специфике религиозных представлений, о практицизме мировоззренческого комплекса в целом.
С этой особенностью духовной культуры и менталитета шанцев связана еще одна особенность — своеобразная историческая амнезия. Китай, как известно, страна истории. Тем необъяснимей
24
тот странный факт, что в шанских надписях отсутствуют сведения об историческом прошлом шанцев. Упоминаются лишь имена предков, но даже намека нет на их деяния, на предания старины или на заметные события в прошлом (хотя бы в недавнем — например, в связи с перемещениями коллектива шанцев либо какой-то его части). В том, что такие перемещения были (причем сравнительно недавно, перед правлением У Дина), сомнений нет — надписи датируются временем У Дина и позже, но не ранее, да и в раннечжоуских главах «Щуцзина» немало сказано о перемещении иньцев при Пань Гэне, предшественнике У Дина. Перемещения в данном случае упомянуты лишь как очень наглядный пример исторической амнезии, ибо об этом-то шанцы должны были вспомнить и хотя бы раз, хоть в каком-либо контексте что-то сказать. Но нет сомнений, что шанцы могли, также хотя бы кратко, рассказать о деяниях столь уважаемых ими пред-ков-ди, дабы прославить их в назидание потомкам. Ничего этого в надписях на шанских костях нет, а количество расшифрованных текстов не оставляет сомнений в том, что это не случайность.
Истории для шанцев как бы не существует. Быть может, именно потому, что нет развитой мифологии, а в те далекие времена и на том протоисторическом уровне мышления все исторические события, деятели и герои так или иначе обретали форму мифологических. Можно сказать более осторожно: где-то на бытовом уровне низших слоев общества, в традиционных повествованиях сказителей то и другое (история и мифология), возможно, все же существовали, играя определенную роль в формировании культурной памяти и традиций народа, но в официальной практике Шан, в сакральных текстах эпохи этого нет. Создается впечатление, что шанские верхи нарочно хотели забыть, вычеркнуть из памяти предания старины и связанную с ними героическую мифологию в отличие, скажем, от индоариев в бассейне Ганга, где высшие варны свято хранили в памяти все, связанное с прошлым. Только ради благополучия сегодняшнего дня они постоянно общались с умершими и обожествленными ими предками-ди, шан-ди, считавшимися, как уже говорилось, всемогущими и потому заменившими собой всех богов и мифических героев.
Такого рода нарочитая историко-мифологическая амнезия, быть может, как-то связана с загадкой происхождения шанцев аньянской фазы: шанские правители-ваны быстро ассимилировались в монголоидной среде аборигенов (если предположить, что они были потомками мигрантов, прибывших в бассейн Хуанхэ на боевых колесницах с аксессуарами неизвестной китайскому неолиту и раннему бронзовому веку развитой урбанистической цивилизации), не желали вспоминать о прошлом и вели
25
себя в этом смысле наподобие древнерусских Рюриковичей. Разница лишь в том, что в отличие от Рюриковичей они все же вспоминали о своих далеких полуреальных—полумифических предках-предшественниках, но безо всякой конкретики,, без реминисценций — только имя и место в генеалогическом ряду.
3. ЧЖОУСЦЫ И КРУШЕНИЕ ШАН. ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ЧЖОУ
Шанцы с их боевыми колесницами и многими тысячами хорошо обученных воинов, включая лучников и копейщиков, были весьма опасными для более слабых соседей. Они не раз демонстрировали свою грозную боевую силу, расширяя территорию Шан за их счет. Но, как уже упоминалось, соседние племена в результате контактов с Шан развивались ускоренными темпами, быстро проходя процесс трибализации и обретая протогосударствен-ную структуру. Во главе формировавшихся племен подчас оказывались амбициозные вожди, которые в свою очередь немало делали для усиления собственного племени и создания боеспособной коалиции антишанской направленности. Более всего преуспели в этом деле чжоусцы, вначале весьма небольшая общность, обитавшая — или, точнее, перемещавшаяся — на землях, расположенных к западу от Шан.
Этногенетические связи чжоусцев неясны. В «Шуцзине» и «Исторических записках» Сыма Цяня сохранились легендарные предания о некоей Цзян, которая зачала и родила мальчика после того, как наступила на след великана. Когда мальчик вырос, в нем проявились определенные способности, особенно в сфере земледелия. За это он б^1л отмечен должностью-титулом хоу-цзи (князь-просо), получил земли в Тай и стал носителем пожалованного ему легендарным императором Шунем родового имени Цзи. Его потомки переселялись с места на место, то утрачивая свои земледельческие навыки, то обретая их вновь, пока при Гун Лю не переселились в бассейн притока Хуанхэ р.Вэй (район совр. г. Сиань). Однако только через несколько поколении при Гугуне Дань Фу чжоусцы прочно осели на землю. Дань Фу женил своего младшего сьша Цзи Ли на шанской аристократке Тай Жэнь и сделал его своим преемником. Цзи Ли успешно управлял чжоусцами в тесном контакте с Шан, за что получил от шанского вана почетный титул си-бо (правитель Запада). Но особенно много для развития чжоусцев сделал его сын Чан, будущий великий Вэнь-ван.
Мудрость, добродетели и величие Вэнь-вана известны в Китае каждому вот уже несколько тысячелетий. И это не случайно.
26
За полвека своего правления, лишь в конце которого Чан принял титул «ван» (до того это бьша исключительная прерогатива правителя Шан), он достиг многого. Под его руководством чжо-усцы активно впитывали шанскую культуру, заимствуя письменность, боевые колесницы, бронзу и образ жизни высшей шанской знати. Сам Вэнь-ван лидировал в этом процессе, делая явственный акцент на сферу культуры, образования, гуманитарных знаний (иероглиф вэнь, посмертно вошедший в его имя, указывает именно на эти качества и заслуги). Вместе с тем Вэнь-ван лелеял и далеко идущие политические планы, сколачивая вокруг Чжоу антишанскую коалицию, закладывая основы военной силы чжоусцев. Впрочем, довести дело до конца он не успел. Это сделал его старший: сын Фа, вошедший в историю Китая под именем У-вана (Победитель, Воинственный правитель). Продолжая дело отца, У-ван в 1027 г. в битве при Муе одолел войско последнего шанского вана Чжоу Синя. Чжоу Синь покончил с собой, а У-ван, войдя в столицу Шан, отправился в храм предков, где совершил жертвоприношение в честь шанских шан-ди. Мало того, он вручил бразды правления побежденного им Шан в руки сына Чжоу Синя У Гэна, назначив присматривать за ним своих братьев Гуань-шу и Цай-шу. После этого, демобилизовав воинов и щедро наградив шанскими ценностями всех участников похода, включая и союзников по коалиции, У-ван возвратился домой.
Древнекитайские источники, повествуя об этих событиях и о несколько странном на первый взгляд поведении победителя, дают основание предположить, что чжоусцы и их союзники стремились не столько к свержению власти Шан, сколько к устранению недобродетельного правителя Чжоу Синя. Хотя У-ван после победы был по меньшей мере равным по статусу и титулу (не говоря уже о явном превосходстве позиций и силы) новому шанскому правителю, власть над всем могущественным государственным образованием Шан была сохранена за У Гэном. У-ван сообщил о победе не своим предкам, начиная с его отца Вэнь-вана (подобного рода практики у чжоусцев, как следует полагать, просто не существовало), но шанским предкам, шан-ди, которые жили на Небе и оттуда (в бассейне Хуанхэ это было всем хорошо известно) руководили своими потомками, в немалой мере обеспечивая их успехи.
Создается впечатление, что, обратившись к шан-ди, У-ван тем самым как бы стремился сообщить им, что не покушается ни на их власть на Небе, ни на власть их потомков на земле. А поступил он так потому, что его победа не делала в глазах населения бассейна Хуанхэ власть победителя легитимной, ибо легитимность приобреталась покровительством шан-ди, живших на Небе, а не
27
преимуществом удачного случая и тем более просто силы. Правда, фактически чжоусцы верховодили после победы и даже начали строить новый город-столицу Лои (совр. Лоян) значительно восточнее их прежнего местожительства с тем, чтобы управлять своими союзниками и побежденными шанцами, находясь в центре бассейна Хуанхэ. Но, несмотря на всю бесспорность высшей власти победителей-чжоусцев, эта власть не считалась легитимной, что, как можно предполагать, смущало прежде всего самого У-вана, воспринимавшего идеи мироустройства (включая Небо и шан-ди) сквозь призму шанской традиции, ибо альтернативы у него не было.
Вскоре после победы над Шан У-ван умер, оставив правителем-регентом при малолетнем сыне Чэн-ване своего брата Чжоу-гуна, одного из самых известных и почитаемых деятелей эпохи Чжоу. С его смертью ситуация резко изменилась: с одной стороны, шанцы увидели в этом знак Неба, волю шан-ди, карающую нелегитимного правителя; с другой — братья Чжоу-гуна Гуань и Цай, поставленные контролировать шанского У Гэна, заподозрили Чжоу-гуна в узурпации власти и вместе с У Гэном выступили против него. Мятеж длился три года и лишь неимоверными усилиями Чжоу-гуна был подавлен. И вот теперь второе за немногие годы сокрушительное поражение шанцев уже всеми было воспринято как знак Неба, подтверждающий легитимность по-бедителей-чжоусцев. Сами шанцы после своего второго поражения были поделены на несколько частей и переселены на новые места: в район Лои — строить новую столицу; в Сун, специально созданный удел, править которым, принося жертву шанским предкам, было поручено представителю одной из ветвей правящего дома Шан; в удел Чжоу-гуна Лу и еще понемногу в разные места. На старом месте осталась небольшая часть шанцев, отданная в качестве удела брату Чжоу-гуна Кан-шу (удел Вэй). Таким образом, победа чжоусцев на этот раз была полной и окончательно Следовало лишь закрепить ее формально, что для населения бас-сейнаХуанхэ, воспитанного в шанскихмировоззренческихтра-дициях, оказалось делом крайне важным и необходимым.
Именно Чжоу-гун сумел успешно решить проблему закрепления высшей власти чжоусцев, что и сделало его имя почитаемым в веках. Речь идет о теории Мандата Неба. В шанских текстах Небо в качестве высокочтимой сакральной силы не выделялось, оно было лишь местожительством умерших правителей, шан-ди. В начале эпохи Чжоу, как о том свидетельствуют ранние главы «Шу-цзина», было отчетливо вычленено и выдвинуто на передний план именно Небо как абстрактная Божественная сила, сперва приравненная к шан-ди, которые — если судить по контексту сооб-
28
шений «Шуцзина» – теперь воспринимались не во множественном, а в единственном числе. Шанди как божество, живущее на Небе, стал конкретным олицетворением все того же Неба, причем акцент со временем все явственнее переносился с Шанди на Небо. Делалось это не случайно: шан-ди (или Шанди) были шанскими, Небо же не принадлежало никому. Оно поддерживало того, кто был легитимен. Мало того, именно Небо создавало легитимность. Делая шаг за шагом по этой непростой логико-политической линии рассуждений, Чжоу-гун и его помощники вплотную подошли к центральному звену всей цепи мировоззренческих переосмыслений: почему же и за какие деяния Небо делает легитимной власть того или иного правителя? И коль скоро этот ключевой вопрос был задан, его решение оказалось приемлемым для всего населения бассейна Хуанхэ: право (мандат) на власть Небо дает не тому, кто силен и удачлив (что считалось естественным и само собой разумеющимся во всем мире, но не в шанско-чжоус-ком Китае), а тому, кто мудр, справедлив и добродетелен. Но кто же это?
Вот здесь-то чжоусцы и обратились к истории — той самой, которая была, на их счастье, в таком небрежении у их предшественников-шанцев. Учли они также и специфику шанского мировоззрения, в котором явственно преобладала этика социального прагматизма (я — тебе, ты — мне), оттеснив на задний план религию и мифологию. То есть Чжоу-гун и его помощники сформулировали принцип этического детерминанта дэ. В понятии дэ (сакральная добродетель, харизма, благодать) на передний план было выдвинуто его этическое содержание, хотя глубинной основой оставались религиозно-ритуальные мистические взаимоотношения, связывавшие людей с предками и Небом..
Но новизна идеи этим не ограничивалась. Главное в ней сводилось к тому, что сакральное дэ можно накапливать и утрачивать, — этот аспект нового понятия сближает его с индийской кармой. Накопление происходит в результате добродетельного поведения, утрата — наказание за недобродетельность. Высшим судьей при этом и выступает Небо, которое вручает мандат на управление всей Поднебесной (Тянься — этим термином в Китае всегда обозначали все то, что находится не просто под Небом, но под властью Неба) тому, кто накопил наибольшее количество дэ, отбирая его у того, кто свое некогда неизбывное дэ утратил. Отсюда следовал логический вывод: когда-то легендарный родоначальник шанцев Чэн Тан должен был быть выдающимся обладателем дэ — иначе Небо не остановило бы на нем свой выбор и не вручило бы ему мандат. Но со временем преемники Чэн Тана растратили его дэ, а последний из них, Чжоу Синь, был.
29
абсолютно его лишен, а потому и вел себя соответственно («Шу-цзин» и другие древнекитайские источники не жалеют красок, чтобы опорочить Чжоу Синя как человека распутного и безнравственного, отдалявшего от себя достойных и приближавшего недостойных, издевавшегося над мудрыми и даже слушавшего советы женщин). В то же время великий чжоуский Вэнь-ван быстро и умело накапливал дэ, передав его сыну, который сохранил и увеличил его. Именно поэтому (о себе и своей роли Чжоу-гун скромно умолчал) Небо отвернулось от утративших дэ шанских правителей, отняло у них Божественный мандат и вручило его обладавшим дэ чжоуским" правителям. Отсюда — легитимность власти Чжоу. Но и это еще далеко не всё.
Коль скоро для своих мировоззренческих построений чжоус-цы, и Чжоу-гун в частности, вынуждены были опереться на историю и таким образом придать ей немалый авторитет, они не остановились на одном цикле — этого было недостаточно, и это могло нести на себе оттенок случайности, необязательности. Нужен был еще хотя бы один цикл такого рода. И он был создан из умело интерпретированных легенд, сохранившихся в традициях населения бассейна Хуанхэ. Имеется в виду так называемая проблема Ся.
Дело в том, что начиная с эпохи Чжоу в китайскую историографическую традицию прочно вошло представление, согласно которому государству и династии Шан предшествовали столь же значительные по размерам и длительности существования государство и династия Ся. Между тем в шанских надписях нет ни слова о Ся, как нет и знака «Ся». Кроме того, все находки доань-янских городищ, которые некоторые исследователи предлагают считать свидетельством реального существования Ся, говорят лишь о наличии мелких и мельчайших протогосударственных образований, явно не объединенн^хх в рамках какой-то системы, какого-то более крупного государственного образования, с которым могли бы вступить в конфликт шанцы. И, кроме всего прочего, нет оснований считать эти городища принадлежащимиименно Ся, а не, скажем, доаньянскому (до У Дина) периоду Шан.
Все эти сложности и составляют проблему Ся, далеко еще не решенную в синологии. Впрочем, есть весомые основания полагать, что такой проблемы вообще не существует, что чжоусцы выдумали ее для того, чтобы за счет мифических государства и династии Ся создать еще один цикл, один виток обретения и утраты небесного мандата. В раннечжоуских главах «Шуцзина» о династии Ся говорится, что некогда была ее власть, а потом правители Ся утратили дэ, а с ним и небесный мандат, который после этого перешел к высокодобродетельному шанскому Чэн Тану.
30
Но почему именно Ся? Дело в том, что в начале Чжоу этим знаком (Хуа-ся) нередко обозначали весь известный и освоенный в то время Китай, все то, что затем чаще именовали Поднебесной. Этот термин вполне подходил для обозначения того, что должно было предшествовать Шан. Стоит обратить внимание и на то что в самых ранних главах «Шуцзина», почти нет имен и история древних событий представлена намеченной лишь в общих контурах. Можно сказать, что в главах первого слоя «Шуцзи-на» был создан лишь некий фантом, голая конструкция о Ся, своего рода символ существовавшего государственного образования, будто бы предшествовавшего Шан. Тем самым были намечены контуры второго цикла, второго витка, в результате чего вместе оба цикла уже достаточно убедительно отражали некую весомую закономерность, связанную с волей Неба: Небо дает мандат достойному и отбирает его у недостойного, вновь вручая достойнейшему. Так было и в случае с Ся, и в случае с Шан, и теперь так же обстоит дело с Чжоу. Иными словами, чжоусцы правят легитимно, само великое Небо вручило Вэнь-вану и его преемникам мандат на управление Поднебесной.
Позже, в VIII—VI вв. до н.э., когда проблема легитимности чжоуских правителей опять стала на повестку дня, ибо реальная власть их в период Чуньцю резко ослабла, историографическая традиция на новом этапе вновь заработала на полную мощь. Именно в то время были написаны те главы (второй слой) «Шуцзина», в которых появились и имена, и сюжеты легендарной истории, будто бы предшествовавшей Шан. И снова стоит обратить внимание на то, что это делали чжоусцы, потому что именно чжоусцам и их правителям это было нужно. Создать и укрепить историческую традицию, историзовать легенды, из которых брались реалии, имена и разного рода псевдоисторические сюжеты, было для Чжоу и в начале его истории и позже, в Чуньцю, жизненно важным.
Таким образом, история в Китае с начала Чжоу б^ьла настолько политизирована, что подчас активно создавалась заново, практически из ничего, почти на пустом месте. Отголоски событий далекого прошлого, заимствованные у соседей предания и имена, историзованные легенды — все это умело интерпретировалось, вписывалось в линейную хронологическую схему и обретало облик древней истории — той самой, что совершенно отсутствовала в шанских текстах.
Это не значит, что китайскому историческому источнику вовсе ельзя доверять. Но все сказанное означает, что история и исторические факты в Китае с древности ставились на службу офи-
альной идее. И хотя это характерно не только для Китая и не
31
только д^я древних времен, именно в Китае на протяжении всей его истории это играло очень существенную роль: умело интерпретированный факт всегда был весомым аргументом в споре, в том числе на самом высоком уровне, в момент решения важнейших государственных проблем.
Создав более или менее убедительную для всех официальную государственную идею и умело подкрепив ее апелляцией к истории, чжоусцы: заложили фундамент своего 800-летнего господства, во всяком случае легитимной власти. Но сложность ситуации заключалась в том, что, укрепившись на своем троне, первые чжоуские правители, однако, не располагали необходимой для управления большим государством административно-политической структурой, которую можно было бы использовать для последовательной и результативной институционализации власти Чжоу.
Здесь важно обратить особое внимание на то, что процесс политогенеза, о котором уже шла речь, имеет ряд ступеней. Первая из них — это простое протогосударство (антропологи именуют его английским термином chiefdom, чифдом — вождество), в котором над коллективом четко возвысился лишь вождь с небольшой группой его помощников. Трибализованные группы (племена), в том числе чжоусцы в момент завоевания Шан, находились именно на этой ступени. Вторая — протогосударство сложное или составное, каким было государственное образование Шан с его многочисленными региональными подразделениями, каждое из которых являло собой простое чифдом-вождество. Третья ступень — раннее государство, т.е. многоступенчатая иерархически организованная административно-политическая структура, основанная на клановых и внеклановых патронажно-клиентных связях, обеспечивающая управление обширной территорией с этнически гетерогенным населением и к тому же обычно уже хорошо знакомая, с престижным потреблением правящих привилегированных верхов за счет ренты-налога со своих производителей и дани с зависимых соседей.
В процессе развития общества одна ступень гармонично замещает другую (разумеется, если не случается серьезных катаклизмов), перескакивать же через ступени безнаказанно нельзя. Между тем именно нечто подобное и произошло с чжоусцами. Одолев Шан, они в силу исторических обстоятельств оказались вынужденными создать на большой территории бассейна Хуанхэ из множества разноуровневых структур раннее государство, бывшее третьей ступенью процесса политогенеза. Раннее государство как структура отличается от сложного протогосударства тем, что оно на порядок крупнее его территориально и численно, имеет
32
более сложную социально-политическую организацию с администрацией на трех уровнях (местный, региональный и центральный), с большим количеством специальных служб, с развитой идеологической системой, санкционирующей и легитимизирующей власть, с ощутимыми привилегиями для верхов и многими иными особенностями. Кое-чего чжоусцы добились, прежде всего в сфере легитимизации власти, что и упрочило их господство. Но перепрыгнуть через ступень (с первой на третью) им было очень трудно: требования исторических реалий, вызов эпохи ждали ответа, который малочисленное племя чжоусцев не в состоянии было дать, что не преминуло сказаться на результатах. Имеется в виду характер созданной ими политической структуры.
Первые чжоуские правители старательно пытались создать централизованное государство. Реальностью же оказалась децентрализация раннечжоуского Китая, причем иного результата в сложившихся условиях и не следовало ожидать. Разумеется, чжоусцы использовали шанский опыт, квалификацию шанских ремесленников при строительстве новой столицы, куда, заметим, были переселены и шанские воины-профессионалы (восемь иньских армий, как они именуются в источниках). Использовалась также схема шанской администрации, лишь немного дополненная за счет чжоуской. Были взяты на службу и шанские чиновники. Все это сыграло определенную роль в укреплении чжоуской государственности. Однако создать сколько-нибудь прочную и стабильную централизованную структуру, тем более империю, чжоусцы не смогли. Более того, они переняли у шанцев их систему региональных владений, которая в условиях растянутых коммуникаций, непрочных связей, разноплеменного населения и слабости центра неизбежно вела к политической раздробленности-. Одной из важных причин, приведших к такому результату, была неразвитость системы централизованной редистрибуции и как следствие — необходимость создания уделов-вотчин и служебных кормлений для администраторов высших рангов, приближенных и родственников чжоуских правителей.
Система высшего звена централизованной администрации Западного Чжоу (период с 1027 по 771 г. до н.э. именуется так потому, что столица чжоусцев в те времена оставалась прежней и именовалась Цзунчжоу, фиксируя происхождение и родовые корни чжоусцев) базировалась на троичной основе. Высшими сановниками и ближайшими советниками вана считались трое гунов, из которых двое, Чжоу-гун и Шао-гун, б^хли братьями У-вана, а третий, Тай-гун, представлял род Цзян, с которым у чжоуских правителей из рода Цзи существовали прочные дуально-брачные связи. Но «гун» — это, скорее, знатный титул, нежели должность.
33
Три высшие должности в Западном Чжоу занимали сановники категории тай — тай-цзай, тай-бао и тай-цзун (великий управитель, великий воспитатель и великий церемониймейстер), причем первые две занимали те же Чжоу-гун, практически управлявший страной, и Шао-гун, живший в столице при малолетнем Чэн-гуне и отвечавший за его воспитание. Чуть ниже были три должности категории сы — сы-ту, сы-кун и сы-ма (управляющий сельским хозяйством; управляющий ремеслом и строительством; управляющий военными делами, прежде всего конями и колесницами, своего рода маршал).
Однако такого рода троичная система была исходной, но не догматичной: росло и число гунов, и количество чиновников категории сы (вэйский Кан-шу после подавления мятежа и получения удела стал сы-коу, кем-то вроде судьи-надзирателя за подвластными ему в Вэй шанцами). Кроме того, помимо гунов в число высшей чжоуской аристократии входили и иные титулованные особы — хоу, бо, цзы, нанъ. Обычно это б^хли правители издревле существовавших шанских и иных полуавтономных владений, а также те чжоусцы, которые получили уделы от вана заново. В любом случае количество всех носителей титулов и одновременно обладателей высших должностей составляло не более сотни-двух, как то было и у шанцев. Пожалуй, наиболее достоверной может считаться цифра 71 — именно столько уделов б^хло создано, по данным трактата «Сюнь-цзы», в начале Чжоу, причем 53 из них принадлежали выходцам из дома вана.
Удельная система, частично заимствованная у шанцев, частично появившаяся в силу обстоятельств, сыграла роковую роль в судьбах Чжоу, перечеркнув все надежды на создание централизованного государства. Правда, на первых порах большинство заново создававшихся чжоуских уделов, особенно отдаленных от столиц, были не столько автономными административно-политическими структурами (тем более изолированными вотчинами), сколько военно-территориальными образованиями для наведения порядка на местах. Эти уделы и их немногочисленное коренное население в случае нужды достаточно легко перемещались с места на место, а их управители, получив из рук вана документ типа инвеституры на право владения (обычно это была соответствующая надпись на ритуальном бронзовом сосуде с перечислением объектов дарения и владения, от знамен и колесниц до людей разных племен, включая сопутствующих владельцу людей вана, т.е. самих чжоусцев), вначале ощущали себя, скорее, комендантами гарнизона в далекой глуши, чем полновластными правителями. Связующие нити между такими уделами и чжоуским центром с его сакрально-легитимным ваном, вскоре начавшим
34
именоваться пышным титулом «сын Неба», были не слабее, чем v региональных властителей второй зоны Шан с шанским ваном-первосвященником. Однако со временем ситуация изменялась причем достаточно быстрыми темпами.
Прежде всего, уделы оказались неравноценными. Уделы центральной зоны (между старой и новой столицами) и столичных районов, располагавшиеся в сравнительно обжитых местах, были мелкими и, как правило, не имели заметной автономии. Именно здесь достаточно эффективно действовала администрация центра, в основном находившаяся в Лои, но частично и в Цзунчжоу. Видимо, поэтому многие уделы-этой части страны быстро превращались в нечто вроде условных служебных кормлений. Правда, по мере ослабления вдасти западночжоуских ванов по меньшей мере часть межстоличного района вновь была занята и освоена некоторыми уделами, включая заново переместившихся сюда, как это было, в частности, с уделом Чжэн, южным соседом Лои. В любом случае, однако, мелкие уделы центральной зоны — за немногими исключениями вроде Сун — почти не оставили следов своего существования. Иное дело — уделы периферийные, располагавшиеся вдали от центра, от обеих столиц.
Эти периферийные уделы, вначале игравшие роль форпостов, граничных застав, с течением времени увеличивались в размерах за счет аннексий соседних территорий и междоусобных войн, росла и численность их населения. В то же время само число этих уделов всё время сокращалось. Одновременно менялась и их внутренняя структура. Скомпонованный по воле случая гетерогенный коллектив подвергался естественному процессу этнической консолидации. Как бы пройдя через плавильный котел, жители удела пускали новые корни, устанавливали между собой родственные связи и через несколько поколений уже логично и закономерно считали себя жителями данного удела, подданными своего господина, владельца удела.
Что же касается правителей, то они воспринимали свой удел в качестве вотчины, со временем все меньше нуждаясь в подкреплении своего права на владение от вана, хотя формально эта процедура инвеституры еще продолжала существовать. Они становились наследственными владельцами уделов, по размерам порой сравнимых с территорией центра, находившейся под непосредственной юрисдикцией вана и его администрации. Таким образом вчерашние уделы превращались в полунезависимые государственные образования, чей вассалитет от сюзерена-вана со временем становился все менее ощутимым. Именно этот процесс скоре после институционализации Западного Чжоу как государства стал едва ли не основным, определявшим и структуру
35
западночжоуского общества, и динамику его эволюции, да и вообще всю специфику существования чжоуского Китая как конгломерата различных государственных образований.
4. ЗАПАДНОЕ ЧЖОУ: ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО
Период правления первых чжоуских правителей — Чжоу-гуна, Чэн-вана, его сына Кан-вана и внука Чжао-вана — сравнительно небольшой (1025—948 гг. до н.э.). Но то б^хли самые славные для Западного Чжоу три четверти века. Именно на это время пришелся процесс институционализации чжоуской власти, центральными моментами которой стали создание концепции небесного мандата, возведение второй столицы, использование опыта шанцев в разных местах и прежде всего в новой столице, укрепление администрации центра, эффективно действовавшей в районе между столицами, в зоне центра и, наконец, возникновение системы уделов. Это были годы укрепления власти центра и попытки создания той самой империи, которая позже воспринималсь потомками как некогда существовавшая, — достаточно напомнить о схемах позднечжоуского трактата Чжоули, где дано детальное описание администрации такого рода империи.
Однако реально создать ее так и не удалось. В то время как на поверхности, отраженной во множестве надписей на бронзе и иных текстах раннего Чжоу, действительно, многое выглядело как доказательство реального существования крепкой власти центра с его налаженными бюрократическими ведомствами, эффективным аппаратом администрации, твердо фиксированными взаимодействиями между столицами и периферией (именно это вошло в позднейшую традицию и дало основание для иллюзии о существовании раннечжоуской империи), на деле в стране преобладали процессы иного рода, т.е. дезинтеграционные импульсы, связанные с естественной динамикой эволюции удельной системы.
Вначале эти процессы были малозаметны — в противовес усилиям, направлявшимся на создание прочной власти центра во главе с сакральной фигурой вана, сына Неба, усилиям, которые олицетворялись титанической личностью Чжоу-гуна и стремлением его преемников следовать взятому им курсу. «Цзо-чжуань», комментарий к летописи «Чуньцю», один из наиболее ценных для историка чжоуских текстов, характеризовал Кан-вана как правителя, «щедро одарявшего своих родственников уделами» и «давшего народу отд^хх» после бурн^хх событий, пришедшихся на долю Чжоу-гуна и Чэн-вана, которые способствовали «успокоению государства». Эта характеристика в деталях может быть
36
оспорена, ибо уделов больше раздавали У-ван и Чжоу-гун, чем Кан-ван, но динамика подмечена точно: первые бурные десятилетия чжоуской истории после завоевания Шан сменились при Кан-ване (1004-967 гг. до н.э.) сравнительно спокойным течением событий. Вместо бесплодных усилий по укреплению власти центра Кан-ван предпочел завершить процесс создания удельной системы, которая, как о том уже говорилось, объективно вела к децентрализации. И, спокойно восприняв новую реальность чжоуского мира, он стал больше заботиться о том, чтобы на северной и южной периферии этого мира можно было давать активный отпор варварским племенам, способствуя тем самым расширению территории Чжоу.
Естественно, что расширявшаяся за счет этого территория не усиливала позиции вана. Напротив, вновь завоеванная периферия, да и уделы, располагавшиеся на давно освоенных чжоус-цами окраинах, фактически оказались под властью тех удельных правителей, которые доминировали в том или ином районе. Чжао-ван (966-948 гг. до н.э.) стал первым чжоуским правителем, который с огорчением начал пожинать плоды этой вынужденной политики. При нем, как о том упоминается у Сыма Цяня, «в управлении государством проявились слабости и изъяны». Видимо, имелось в виду то, что, хотя Чжао-ван, как и его отец, совершил немало успешных походов, способствовавших расширению владений Чжоу, из последнего такого похода на юг он не вернулся, погубив шесть чжоуских армий при не вполне выясненных обстоятельствах. Разумеется, можно говорить просто о военном поражении, но факт остается фактом: могущество первых чжоуских ванов при Чжоу-ване очевидно близилось к концу.
Последним из ранних чжоуских ванов, чье имя осталось в памяти потомков, был Му-ван (947-928 гг. до н.э.). Он много воевал на северных и западных границах, любил лошадей и, согласно легендам, обладал страстью к дальним путешествиям (например, на Запад к знаменитой богине Сиванму).
Во второй половине X и первой половине IX в. до н.э. в чжоус-ком Китае сложилась децентрализованная политическая структура феодального типа, в рамках которой наряду с государством вана уже существовало несколько достаточно больших и немало более мелких полуавтономных государственных образований. Каждое из этих образований, выросши на базе некогда пожалованного и затем укрепившего свои позиции удела, претендовало на политическую самостоятельность. Сакральный сюзеренитет вана князья чжухоу еще признавали, легитимность его власти не оспаривалась, но практически каждый из его вассалов действовал самостоятельно, исходя из собственных интересов.
37
Внутренняя структура вновь возникших царств и княжеств обычно копировала чжоуский центр. Из надписей на бронзе явствует, что во многих уделах существовали высшие чиновники цин-ши и тай-ши, а также должностные лица категории сы (сы-ту, сы-ма, сы-кун). Как и в самом Чжоу, должности не обязательно, но очень часто были наследственными, причем тесная связь между должностью, титулом, родством и владением территорией практически была нормой. Все меньше на арене политической жизни появлялось удачливых аутсайдеров и все большую роль играли родственные кланы внутри княжеств. Шла успешная институци-онализация власти, создавалось устойчивое административно-политическое равновесие теперь уже на уровне царств и княжеств, т.е. практически независимых в скором будущем государств.
Чжоуский центр вынужден был считаться с этим. И хотя более поздние историографы достаточно потрудились над тем, чтобы пригладить неприглядную политическую ситуацию, на практике ваны уже почти не имели реальной власти за пределами столичных зон. Из более поздних схем, хорошо известных в Китае, может сложиться впечатление, что дело обстояло иначе, что существовала строгая иерархия титулов — гун, хоу, бо, цзы, нань (в европейской синологии их обычно отождествляют с герцогом, маркизом, графом, виконтом, бароном), что сын Неба дважды в год совершал поездки в уделы, а все вассалы с примерно той же регулярностью появлялись в его столице с соответствующими подношениями, создавая таким образом иллюзию порядка и строгой иерархической нормы. На деле все было не так. Поездки случались от случая к случаю и чаще вызывались необходимостью, а не требованиями какой-то общепризнанной нормы. Подношения бывали, причем обоюдные. Что же касается титулов, то здесь какая-либо стройная система отсутствовала, а сами титулы в текстах с легкостью взаимозаменялись (Шао-гун, например, мог именоваться Шао-бо). Нередко в документах они вовсе опускались, как это б^хло в случае с Юем, владельцем бронзового сосуда с надписью «Да Юй дин», который унаследовал удел от Нань-гуна и явно имел право на высокий аристократический титул. Но это не говорит о том, что титулы ничего не значили, просто ти-тулатура не всегда бывала приведена в соответствие с иными, более важными в то время характеристиками чжоуской знати — родством, должностью, владением, реальной властью. К тому же титулы в чжоуском Китае никак не вписывались в нормы обычной иерархической лестницы, по логике которой носителей низших титулов должно было бы быть больше, чем обладателей высших; в чжоуском же Китае, насколько можно судить по текстам, в среде титулованной аристократии явственно преобладали носители высших титулов.
38
Копируя чжоуский центр, удельная знать искала внутреннюю стабильность и административную эффективность в жесткой кла-овой структуре с ее строгой внутренней иерархией, тесно связанной с линией и старшинством родства внутри правящего клана Такого рода кланы, получившие наименование цзун-цзу или цзун-фа (иногда гун-цзу), служсили одновременно и для счета родства, и для обозначения кланово-корпоративных воинских наименований, княжеских дружин, обычно комплектовавшихся из родственников правителя, как то стало нормой в Китае еще в конце Шан. Эта кланово-корпоративная структура удельной знати в рамках разраставшегося удела накладьшалась на аморфно-сегментарную клановую структуру сельской общины подданных князя. При этом клановая структура верхов как бы подчиняла себе клановую структуру общинных низов, превращая ее в свой фундамент и давая ей свое клановое имя.
Впрочем, по мере разрастания удела за счет междоусобиц и аннексий в нем появлялось обычно несколько кланов цзун-цзу, имевших различное происхождение и свою территорию. Влиятельные представители боковых линий в рамках разраставшегося удела нередко создавали новые кланы, как правило, сочетавшиеся с заметной должностью их главы при дворе правителя. Естественно, что это рождало соперничество внутри разросшегося удельного государства, являлось причиной внутренних войн, заговоров и т.п. Правда, во второй половине Западного Чжоу, о которой идет речь, междоусобицы еще только намечались. Удельные княжества были пока внутренне цельными и сильными, порой настолько, что могли бросать вызов самому вану.
Впервые подобного рода столкновение произошло в середине IX в. до н.э., в годы правления Ли-вана. Источники повествуют о Ли-ване как о правителе жестком и своенравном. Судя по всему, он хотел усилить власть Чжоу и действовал соответственно, решительно подавляя тех, кто смел выступать против него. По словам Сыма Цяня, Ли-ван стал присваивать себе чужие богатства (видимо, аннексировал владения, чьи правители давали для этого повод). Удельные князья были обеспокоены этим, открыто роптали, вызывая гнев вана, наконец, вслух высказывали свое негодование. В конце концов усилиями удельных князей Ли-ван был свергнут, и 14 лет (842-828) до совершеннолетия его сына Сюань-вана страной управляли князья-регенты (этот период назван гунхэ «совместное правление» — термин, сохранившийся до наших дней).
Сюань-ван (827—782 гг. до н.э.) унаследовал от отца крутой нрав и, будучи явно недоволен развитием событий, стремился противостоять им. Он попытался провести ряд реформ, включая
39
отказ от практики обработки больших полей и введение всеобщего земельного налога, десятины чэ. Видимо, именно с этим нововведением была связана и его попытка провести перепись населения. Сын и преемник Сюань-вана Ю-ван сумел процарствовать до своего бесславного конца и гибели государства всего десять лет. После этого старший сын и законный наследник Ю-вана Пин-ван — видимо, с большинством его подданных-чжоусцев — с помощью нескольких вассалов-чжухоу был перевезен на восток, во вторую столицу Лои, и именно на этом заканчивается Западное Чжоу (1027—771 гг. до н.э.).
Как выглядело западночжоуское общество и что было характерным для процесса его трансформации, протекавшего на фоне уже описанных политических событий и сводившегося в основном к децентрализации власти в Чжоу и укреплению разраставшихся уделов?
Следует начать с того, что реформы, которые пытались провести Ли-ван и Сюань-ван, касались прежде всего чжоуских территорий, расположенных близ Цзунчжоу и заселенных общинными поселениями чжоусцев. Именно здесь традиционно существовали крупные формы землевладения, о чем свидельствуют некоторые песни Шицзина и более поздние тексты, как, например, чжоуские главы древнекитайского источника Го юй. Из этих данных явствует, что в чжоуских землях существовали — как то было и в Шан — большие совместно обрабатывавшиеся поля, наиболее значительные из которых возделывались с участием самого вана и его приближенных. Из песни «Ци юэ» (седьмой месяц), описывающей, скорей всего, чжоуское общество до завоевания Шан или вскоре после этого, вытекает, что вся производственная деятельность крестьян находилась под строгим контролем чиновников правителя, прежде всего надсмотрщиков тянь-цзю-ней, которые б^хли, возможно, и старейшинами своих общин, и ответственными за работу крестьян на большом общем поле правителя. Источники свидетельствуют о том, что чжоуские поля отчетливо делились на два клина — поля сы, каждое из которых крестьянская семья обрабатывала для себя, и поля гун, которые все семьи обрабатывали вместе для правителя. В песне «Да тянь» есть даже поэтическая строка:
Пусть дождь сначала оросит поле гун, А затем уж и наши поля сы.
Как видим, поле гун, т.е. большое общее поле, поле правителя, — на первом месте. Вся же фраза перекликается с теорией конфуцианца Мэн-цзы, жившего в III в. до н.э. Согласно этой теории, в древности в Китае существовала система цзин-тянь,
40
которой сводилась к тому, что в квадрате из девяти равных полей (три по вертикали и три по горизонтали) центральное поле было общим (гун) и обрабатывалось совместно восемью крестьянами, владевшими остальными полями квадрата. Теория Мэн-цзы символически отобразила формы землепользования и механизм редистрибуции урожая в далеком прошлом. И как таковая она едва ли мржет быть оспорена, ибо примерно так и выглядели землепользование и редистрибуция в Шан и на чжоуских землях в Западном Чжоу: за право обрабатывать свой земли и кормиться с них семейные группы общин платили обязанностью обрабатывать большие поля правителя, урожай с которых предназначался и для ритуальных нужд, и для повседневных потребностей аппарата администрации со всеми его вспомогательными службами.
Можно предположить, что постепенное разрастание территории Чжоу создавало ситуацию, когда количество самих чжоус-цев, их новых поселений и обрабатываемых земель категории сы росло быстрее, чем могло создаваться новых больших полей, не говоря уже о том, что для содержания больших полей нужны были немалые дополнительные средства, а это в эпоху упадка власти вана и его администрации становилось обузой для казны. Видимо, именно этим и были вызваны реформы Сюань-вана: отказавшись от участия в обработке ритуального большого поля (т.е. показав свое отношение к системе больших полей как к пережитку прошлого), взамен он ввел налог в виде десятины-чэ, для чего им и была проведена перепись податного населения. Неясно, чем завершились эти реформы, — вскоре после них Западное Чжоу как государство исчезло, а его территория стала основой нового полуварварского царства Цинь, развивавшегося по своим нормам. Однако факт остается фактом: и при Сюань-ване и после него, как о том свидельствуют песни Шицзина, продолжали существовать большие поля, урожай с которых шел в казну в качестве ренты-налога. Так продолжалось по меньшей мере до перемещения столицы чжоуского вана на восток, в район Лои, в 771 г. до н.э.
Что касается района второй чжоуской столицы, Лои, то он с самого начала Чжоу во многом отличался от древних чжоуских земель со столицей в Цзунчжоу. Эти отличия сводились прежде всего к тому, что в Лои основную массу жителей составляли, как о том можно судить по данным источников, покоренные и перемещенные шанцы и их потомки. Этнически пестрое население района второй столицы не было сковано жесткими традициями глубокой древности. Поэтому именно здесь, скорей всего, идея о необходимости взимания поземельного налога с крестьянских общин уже в Западном Чжоу (во всяком случае после реформ
41
Сюань-вана) должна была получить достаточно благоприятные возможности для реализации. Можно предположить, что городское население Лои, его строители, ремесленники, торговцы и воины, по меньшей мере частично содержались за счет налога с крестьянских общин, хотя значительная доля средств для их содержания поступала, видимо, из внутренних резервов (обработка приусадебных участков горожанами и воинами).
Если говорить о системе налогообложения в уделах, то данных на этот счет практически нет или почти нет, как, впрочем, и сведений о существовании в уделах больших полей. Упоминание в «Шицзине» о том, что именно на полях удела Шэнь, созданного Сюань-ваном, была введена практика взимания десятины– чэ, позволяет предположить, что земельный налог являлся нормой в уделах и что с нововведением Сюань-вана в уделе Шэнь в западночжоуском Китае на последнем этапе его существования складывалась единая общая система взимания налогов. Это важно особо подчеркнуть, ибо процесс шел таким образом, что все чжоуские и нечжоуские районы, включая уделы, в то время уже вполне очевидно обрели сходство и, более того, постепенно сливались в единую цивилизационную общность, имевшую свои специфические характеристики.
Для всего западночжоуского общества бассейна Хуанхэ, или, точнее, той его части, которая позже стала именоваться термином «Чжунго» (срединные государства) и куда не включались полуварварские окраинные царства вроде Западного Цинь или южного Чу, эта цивилизационная общность к концу Западного Чжоу стала нормой, как единым и нормативным был язык, на котором говорили жители Чжунго — в отличие, например, от южного Чу. Всюду уже прочно господствовали мощные и разветвленные клановые структуры (цзун-цзу, цзя), нередко включавшие в себя и крестьянские общины. Мощные и сплоченные клановые или удельно-клановые корпорации членились на мелкие нуклеарные семьи и в среде знати, и у общинных крестьян.
Переход к повсеместному применению налога-чэ еще больше способствовал индивидуализации семьи как низовой автономной хозяйственной ячейки в рамках крестьянской общины. Скорей всего, нечто похожее было и в городах с их торгово-ремес-ленным и военным населением, обилием чиновников и обслуживающего персонала. Семейные ячейки в городах, видимо, имели определенную хозяйственную автономию, но не слишком большую: труд и продукт городских жителей шел не на рынок, которого еще не было, а в казну, откуда специалистам, как следует полагать, выдавали продукты питания и различные необходимые вещи. Процесс приватизации и связанный с ним процесс
42
возникновения рынка и товарно-денежных связей еще были — если они вообще были — в зачаточном состоянии, как то вытекает из материалов источников.
Подобного рода система редистрибуции была характерной для всех ранних государственных образований, какими являлись и западно-чжоуские. Однако в Китае эта система работала не так, как на Ближнем Востоке, где в древности преобладали храмовые хозяйства, выполнявшие функции государственной казны, склада и аппарата администрации одновременно. В чжоуском, да и в шанском Китае таких храмовых хозяйств не было, как не существовало и олицетворявших могущество божеств храмов. Избыточный продукт общинной деревни вне зависимости от форм его получения проходил, видимо, через ведомство сы-ту (свои сы-ту были не только в столице вана, но и в уделах), а неземледельческий в городах — через ведомства сы-куна, сы-ма и других высших сановников. Что же касается божеств и вообще религии в Чжоу, то об этом стоит еще раз сказать особо.
Как и шанцы, чжоусцы поклонялись своим предкам, точнее, предкам своих правителей. В конце Западного Чжоу они уже не именовались термином «дм», на смену которому пришло слово Шанди (у шанцев — совокупность их высших предков, шан-ди, в начале Чжоу — Божественная сила, имевшая отношение к предкам и ассоциировавшаяся с Небом), фактически обозначавшее все то же Небо, единственное высшее божество, которое признавалось чжоусцами. Небу от имени правителя-вана, сына Неба (тянь-цзы), торжественно приносились жертвы, но не человеческие. Аналогичные жертвы приносились на алтаре Земли, шэ, который был как у каждого владетельного аристократа, в каждом княжестве, так и в любой деревне. А всеобщее поклонение умершим правителям постепенно замещалось поклонением предкам в рамках каждого клана.
Согласно более поздним данным конфуцианского канона Ли-Цзи, уже в те времена, о которых идет речь, правитель-ван имел в своем храме предков семь алтарей мяо для приношения жертв умершим предшественникам. Простолюдинам же вообще не полагалось иметь храмов в честь предков — на их алтарях, как правило, cтояли дощечки с именами близких им по времени покойников. Степень родства и близость к верхам имели отношение и к срокам траура по умершим.
В целом же чжоуские религиозные верования и представления в тличие от шанских как бы разделились: высшее государственное значение приобрел культ Неба, отправлявшийся лично ваном и только им в полном его объеме; определеннуюрольстали
играть культы земли-территории (шэ) на различных уровнях,
43
вплоть до деревенского; что же касается центрального у шанцев культа правящих предков, то он трансформировался в Чжоу в сложную иерархическую систему культов предков социальных групп различных категорий. Никаких иных божеств и храмов в их честь чжоуская религиозная система не знала, хотя на низшем своем уровне бьша знакома (что характерно для всех народов на сходной ступени развития) с анимистическим поклонением явлениям природы, с пережитками тотемизма, магией, знахарствоми и т.п.
Легко заметить, что рационализм ритуалов, заметный уже в шанское время, в чжоуском Китае продолжал развиваться. Духам предков и духам природы приносили жертвы, дабы они не вредили. Примерно так же строились и взаимоотношения чжоусцев с духами земли-территории шэ: не принесешь жертву — не будет урожая; не отстоишь город с алтарем шэ от разрушения врагом — потеряешь свою землю. Даже взаимоотношения знати с уходящими на Небо духами их умерших предков и с самим великим Небом имели, как было и в Шан, явно прагматический смысл: небесные силы призваны были заботиться о благе живущих, а живущие напоминали им о себе в положенные сроки специальными жертвоприношениями.
Следует обратить внимание на то, что с начала Чжоу практика шанских гаданий на костях и панцирях черепах (на очищенной поверхности писался текст, выдалбливались и затем прижигались лунки, а по трещинам после прижигания гадатели судили о реакций ди, к которым обращался правитель) сошла на нет, а на смену ей пришло гадание на стеблях тысячелистника. Впоследствии, уже в Восточном Чжоу, эта практика гадания была хорошо разработана, обрела облик сочетанийдвух черт (цельной и прерванной) и в форме триграмм (три такие черты должны присутствовать в любом сочетании — всего восемь сочетаний) и гексаграмм (шесть черт — шестьдесят четыре сочетания) легла в основу гаданий по формулам книги Ицзин. Со временем эта книга обросла различными по характеру и все отчетливей обретавшими философский смысл комментариями. Как известно, впоследствии Ицзин был включен в конфуцианское Пятикнижие (Уц-зин), и это превращение книги гаданий в часть конфуцианского канона убедительно свидетельствовало о том, что текст Ицзина был не столько мистическим справочником, сколько весьма рациональным осмыслением различных, легко изменяющихся жизненных ситуаций.
Этическая идея, заложенная в начале Чжоу в концепцию небесного мандата, и отчетливо фиксируемый рационализм в сфере верований и культов способствовали оттеснению мифологического мышления и суеверий, включая мистику, на периферию
44
чжоуской культуры и вьщвижению на передний план ритуала и церемониала. Это в свою очередь вполне коррелировалось с особенностями эволюции чжоуской политической структуры и, в частности, с формированием в верхних правящих слоях общества мощной и влиятельной аристократии. Чжоуская удельная знать, незнакомая с религиозными догмами, могущественными богами и связанной с ними мифологией, считала едва ли не главным в сфере верований и культов строгий ритуал и торжественный церемониал, а во взаимоотношениях между людьми — детально разработанный этикет. Собственно, именно хорошее знание ритуала и церемониального этикета прежде всего отличало знатные верхи от неграмотных и необразованных низов. И хотя формально мудрые и способные из низов всегда приветствовались и включались в правящую элиту (выявление таковых входило даже в должностные обязанности администраторов разных рангов), на деле это значило лишь одно: неважно, откуда ты родом, важно, чтобы ты выглядел своим среди аристократических верхов, т.е. был образованным и грамотным, знал ритуалы и церемониал. Тот, кто принадлежал к верхам, должен б^1л быть — или стать — аристократом, т.е. обладателем должности, причастным к влиятельному клану и, главное, строго соблюдающим нормы этикета, центральным пунктом которого уже в конце Западного Чжоу стали ритуал и церемониал. А в начале Восточного Чжоу и особенно в период Чуньцю (722—464 гг. до н.э.) все эти черты и признаки приобрели еще большую важность.
Глава II
ВОСТОЧНОЕ ЧЖОУ: ПЕРИОД ЧУНЬЦЮ
1. ПЕРИОД ЧУНЬЦЮ (VIII-V вв. до н.э.)
Принципиально новый этап в истории чжоуского Китая начался с гибели Ю-вана и переноса его сыном Пин-ваном своей столицы на восток, в Лои (771—770 гг. до н.э.). Хотя считается, что этот шаг был сделан, как о том сказано у Сыма Цяня, самим ваном «с целью укрыться от нападений жунов», т.е. тех самых племен, которые, действительно, положили конец Западному Чжоу, на деле решение о перемещении правителя чжоусцев приняли влиятельные чжухоу, окружавшие юного Пин-вана. И причиной тому было вовсе не желание обезопасить западную столицу и самого вана от варваров, хотя они и беспокоили чжоусцев своими набегами. Ведь территория, освобожденная Пин-ваном и его подданными (древние чжоуские земли Цзунчжоу), оказалась под властью назначенного тем же Пин-ваном правителя нового удела Цинь, со временем ставшего наиболее могущественным в чжоуском Китае. Главное б^хло в том, что переезд на восток приводил статус вана в соответствие со всеми иными реалиями того Времени.
Ван давно уже перестал быть полновластным властителем Поднебесной, а ее делами распоряжались правители фактически независимых государств. Получив свой домен в Лои, Пин-ван превратился в своего рода первого среди равных, причем его первенство основывалось не на мощи стоявшего за ним государства или аппарата центральной власти — то и другое осталось в прошлом, — но только на сакральной значимости его как сына Неба, владельца небесного мандата.
Пин-ван процарствовал около полувека, и за это время он и его домен окончательно перестали быть центром политической жизни страны. Такого рода центрами попеременно становились наиболее могущественные из царств, вчерашних наследственных уделов, — сначала царство Ци на крайнем востоке Китая, в районе устья Хуанхэ, затем очень большое и крепкое царство Цзинь на западе, на границе с новым и быстро усиливавшимся царством Цинь. Но правильней было бы сказать, что в рамках Чжун-го в период Восточного Чжоу сложилось нечто вроде политического полицентризма — явление, характерное именно для децентрализованных структур. И хотя более слабые царства — Вэй, Сун,
46
Чжэн, Лу и некоторые другие — редко выступали в качестве самостоятельной силы, в составе коалиций каждое из них вносило свой вклад в политическую борьбу, что и создавало эффект полицентризма с его изменяющимися центрами сильной власти и влиятельного соперничества. Иначе говоря, перенос столицы чжоуского вана на восток означал отказ сына Неба от политического контроля за его вассалами, обретавшими тем самым реальную независимость. Более того, это ставило вана порой в унизительную зависимость от тех, кто обладал в стране реальной силой. И все же, несмотря на это, чжоуский ван оставался сыном Неба, всеобщим сюзереном (по крайней мере, в пределах Чжун-го), ибо только его власть в Поднебесной по-прежнему считалась легитимной. Это с особой силой проявилось и стало заметным после полувекового царствования Пин-вана, когда в Китае наступил период Чуньцю.
Начало периода Чуньцю датируется точно — 722 г. до н.э. Это первый год знаменитой луской хроники «Чуньцю» (весны-осени), отредактированной, по преданию, самим Конфуцием. Конец периода чаще всего связывается с годом смерти философа (479), иногда — с последними записями в комментариях к хронике (464). Обращает на себя внимание то, что провинциальная хроника царства Лу стала основой летосчисления целого периода китайской истории. Правда, Лу не обычный удел. В свое время он был пожалован самому Чжоу-гуну, и здесь свято хранились все записи, воспевающие деяния великого отца-основателя Чжоу. В Лу активно разрабатывались приписывавшиеся Чжоу-гуну предложения и идеи, и в немалой мере именно поэтому там достигли высокого уровня совершенства и культура, и грамотность, и практика историописания. Не случаен и тот факт, что Конфуций был лусцем, т.е. родился и вырос в царстве, где грамотность, образование, культура и традиции старины, не говоря уже об историо-писании, были в большом почете. Но при всем том сам факт знаменателен: начиная с 722 г. до н.э. исторические события известны главным образом по хронике «Чуньцю» и — что очень важно — по нескольким комментариям к ней, важнейшим из которых следует считать «Цзо-чжуань».
Здесь необходимо заметить, что «Цзо-чжуань» и беллетризо-ванный сборник эпизодов из чжоуской истории Го юй (который с некоторой натяжкой тоже можно считать комментарием к «Чунь-цю») не только написаны значительно позже, в IV—III вв. до н.э., но и несут на себе явственный заряд конфуцианской интерпретации ранней чжоуской истории, включая и период Чуньцю. А поскольку это практически основные источники, подробно повествующие о событиях того времени, важно критически
47
относиться к сообщаемым ими сведениям, особенно если эти сведения по тем или иным причинам вызывают сомнения. И все же именно Цзо-чжуань и Го юй насыщают лапидарную хронику «Чуньцю» живым историческим материалом, о котором и пойдет речь ниже.
Этот материал свидетельствует о том, что в VIII—VI вв. до н.э. территория бассейна Хуанхэ к востоку от излучины реки, отделявшей срединные государства от Западного Цинь, была поделена между несколькими крупными царствами и десятком-другим средних и малых княжеств, число которых постоянно убывало. На северо-востоке было расположено быстро развивавшееся царство Ци, рядом с ним к северу — начавшее играть сколько-нибудь значительную роль в политических отношениях лишь к концу Чуньцю царство Янь, на северо-западе и западе располагалось самое крупное царство Цзинь, чуть к востоку от него — Вэй, а южнее Вэй, за Хуанхэ, — домен вана и находившиеся неподалеку от него царства Чжэн и Сун. К востоку от Сун, несколько южнее Ци, было Лу. Между перечисленными (в основном в южной части бассейна, южнее реки) располагались остальные царства и княжества, часть которых граничила со считавшимся, как и Цинь, полуварварским южным Чу, правители которого постоянно наращивали свою мощь и часто вмешивались в дела срединных государств. К юго-востоку от Чу, в низовьях рек Хуай и Янцзы, размещалось государство У, начавшее играть значительную роль в конце Чуньцю, как и соседнее с ним на востоке государство Юэ. Такова в самых общих чертах была геополитическая карта периода Чуньцю. Важно заметить, что Для всех царств и княжеств, даже для таких явных аутсайдеров, как У и Юэ, не говоря уже о более тесно связанных с Чжунго царствах Цинь и Чу, чжоуский ван считался сакральным главой и сюзереном. Чуский правитель мог позволить себе присвоить титул «ван», что было неслыханной дерзостью с его стороны, но даже при этом он не становился равным чжоускому вану, ибо не бьл сыном Неба и не имел оснований претендовать на этот статус.
Рассматривая геополитическую ситуацию на расположенной рядом с Чжунго территории, важно учесть, что здесь было немало кочевых и полукочевых племенных образований варваров {жунов, и, ди). Эти варварские группы под влиянием Чжоу давно уже трибализовались, обрели своих вождей, многое переняли из шанско-чжоуской культуры. И хотя чжоусцы подчеркнуто отличали себя от них, правители чжоуских царств и княжеств, включая и самого сына Неба, в дипломатических и иных целях нередко брали себе в жены женщин из варварских племен (одной из них б^1ла Бао Сы, из-за которой, как считается, чжоуский Ю-ван
48
лишился трона и жизни). Эти женщины часто становились законными женами правителя того или иного царства. Сыном одной из них, женщины из племени ди например, был знаменитый цзиньский правитель Вэнь-гун (Чжун Эр).
Домен Пин-вана с центром в Лои оказался одним из сравнительно слабых владений в Чжунго. Он был не в состоянии содержать и двор вана, и его администрацию, и еще значительные в недавнем прошлом (вспомним о 8 иньских армиях в Лои) воинские подразделения. Соответственно резко сократились возможности вана не только вмешиваться в чужие дела, в дела его вассалов, но и защищать собственные интересы. Неудивительно, что после смерти Пин-вана, явно смирившегося с потерей реальной власти в Чжунго, первое полу столетие периода Чуньцю оказалось временем прогрессирующего ослабления чжоуского Китая. Крупные царства, прежде всего Ци и Цзинь, в эти годы раздирались ожесточенными внутренними усобицами. На фоне создавшегося таким образом политического вакуума проявляли свои агрессивные устремления царства второго разряда, такие, как Чжэн и Сун, враждовавшие друг с другом, пытавшиеся создавать коалиции и время от времени даже выяснявшие свои то и дело осложнявшиеся отношения с доменом вана.
Разумеется, такого рода безвластием или вакуумом власти на уровне центра в Чжунго энергично пользовались все царства и княжества, включая и те, которые считались варварскими (т.е. б^1ли населены не чжоусцами, а жунами, ди и иными народами). С каждым десятилетием прогрессирующее ослабление власти центра, чжоуского вана, грозило все большими неприятностями для Чжоу. Постоянно растущие распри и междоусобицы вели к окончательному распаду той хрупкой чжоуской цельности, которая еще оставалась со времен У-вана и Чжоу-гуна. Создавалась реальная угроза варваризации чжоуского Китая. Ситуация резко изменилась лишь после того, как усилилось и стало диктовать свою волю в Чжунго царство Ци.
Царство Ци в начале Чжоу было пожаловано в качестве удела одному из трех гунов — знаменитому Тай-гуну из рода Цзян, сыгравшему весьма важную роль в победе над шанцами. Это был едва ли не самый отдаленный от столицы Цзунчжоу удел на далеком востоке, в районе полуострова Шаньдун, близ устья Хуанхэ и морского побережья. Тай-гун получил широкие полномочия по управлению восточными окраинами чжоуского государства; его богатые рыбой и солью новые владения стали быстро развиваться, так что уже в IX в. до н.э. удел Ци был одним из самых сильных в стране. По-видимому, его побаивались ослабевшие чжоуские ваны и завистливые соседи из числа влиятельных
49
князей, чем, в частности, можно объяснить жестокую казнь цис-кого Ай-гуна по навету его соседа. Ни деталей события, ни причин казни источники не раскр^твают, но сам факт наводит на предположение, что в основе конфронтации чжухоу с правителем Ци лежали главн^тм образом зависть и страх. После этой казни царство Ци почти столетие как бы приходило в себя, а в 731 г. до н.э. даже подверглось нападению жунов, от которых удалось спастись лишь с помощью соседних княжеств, в частности Чжэн. Затем в Ци начались междоусобицы, продлившиеся несколько десятилетий. Когда в 685 г. до н.э. циский трон опустел, двое претендентов, братья Цюй и Сяо Бо, сошлись в решающей схватке. Цюй жил в эмиграции в соседнем и сравнительно крупном царстве Лу, Сяо Бо — в более отдаленном и слабом Цзюй. Влиятельные циские сановники Го и Гао активно поддерживали Сяо Бо, но многие цисцы были за Цюя. Ближайший сподвижник Цюя Гуань Чжун с отрядом воинов выступил наперерез продвигавшемуся в Ци Сяо Бо. Была устроена засада, и во время короткой битвы Гуань Чжун меткой стрелой в живот сразил Сяо Бо. В Лу было послано донесение, что дело сделано и патрон ГуаньЧжу-на Цюй может ехать в Ци, где его ждет трон.
Однако все оказалось не так. Как в^тяснилось позже, стрела попала в металлическую пряжку Сяо Бо, и это спасло ему жизнь. Придя в себя, он поспешил в Ци, где с помощью Го и Гао занял трон под именем Хуань-гуна. В Лу б^зло направлено послание с требованием казнить Цюя и Гуань Чжуна. Цюй был казнен, но за Гуань Чжуна вступился его приятель Бао Шу-я, с котор^тм они вместе в юности занимались торговыми операциями и который высоко ценил его ум и способности. Бао уговорил Хуань-гуна не только простить Гуань Чжуна, но и любыми способами привлечь его на свою сторону во имя процветания Ци. Хуань-гун потребовал от Лу выдать ему Гуань Чжуна живым и после беседы с ним сделал его своим советником, дав большие полномочия. Гуань Чжун в свою очередь покаялся перед Сяо Бо и поклялся в верности ему. После этого он приступил к реформам, смысл которых сводился к укреплению порядка в царстве и превращению его В сильнейшее в Поднебесной.
В описании реформ не все ясно. Некоторые из них — как о том рассказано в более поздних источниках — явно не могли быть осуществлены в те далекие времена. Но если абстрагироваться от сомнительных деталей, то можно сказать, что суть реформ Гуань Чжуна сводилась к следующему. В столичной зоне был создан 21 район — сян, по три ремесленников и торговцев и 15 д^я служилого населения, т. е. для воинов. Каждые пять из этих пятнадцати возглавлялись соответственно самим гуном и двумя его
50
влиятельнейшими сановниками и сторонниками, Го и Гао. Живя вместе, ремесленники, торговцы и воины должны были, по мысли Гуань Чжуна, учиться друг у друга ремеслу и проникаться корпоративными интересами — это призвано было способствовать повышению их квалификации. Что касается сельского населения, периферии царства, то там создавались поселения и — по 30 семейств, десяток таких и должен б^1л составлять волость — цзу и т д. вплоть до округа — шу, во главе которого должен был стоять сановник в ранге дафу. Каждый руководитель шу обязан б^1л регулярно отчитываться о делах своего шу. Кроме того, существовали также инспектора, в обязанность которых входило знакомство с делами на местах.
Выполнение предписаний всей этой тщательно расписанной административной схемы было для той далекой эпохи нереальным; в лучшем случае ее можно принять за образец, не более того. Не исключено, что она б^хла создана много позже и задним числом приписана Гуань Чжуну. Но стремление упорядочить администрацию, лежавшее в основе этой идеальной схемы, было вполне реальным и по многим пунктам осуществимым. А так как Гуань Чжун находился во главе циской администрации около сорока лет, то нет сомнений, что кое-чего в этом направлении он добился. Во всяком случае Ци за короткое время превратилось в сильное и крепкое государство с мощной армией и обрело огромное политическое влияние в Чжунго, что позволило Хуань-гуну играть решающую роль на политической сцене Поднебесной. Ци присоединило к себе ряд слабых соседних княжеств и подчинило своему влиянию практически все остальные. Хуань-гун покарал и потеснил многие варварские владения, преимущественно жунов, обнес новой стеной столицу чжоуского вана, страдавшую от варваров. Эти успехи способствовали росту его престижа, и в 680 г. до н.э. на совещании князей — чжухоу в знак уважения к его заслугам чжоуский ван официально присвоил Хуань-гуну высокочтимый титул ба.
Позднейшая древнекитайская историография выделяет три основные формы правления: ди-дао, правление легендарных древних мудрецов, обладавших наивысшими добродетелями; ван-дао, правление легитимных правителей, обладавших небесным мандатом; и ба-дао, правление нелегитимных, но могущественных правителей, отвечавших за порядок в Поднебесной тогда, когда ван не б^1л в состоянии его обеспечить. Ба считались гегемонами, причём в их функции официально входило «поддерживать Дом Чжоу» и защищать Чжунго от набегов кочевников-варваров. И, надо сказать, с обеими этими функциями Хуань-гун и особенно Гуань Чжун хорошо справлялись. Как было замечено в свое
51
время Конфуцием, который в общем-то не слишком симпатизировал Гуань Чжуну, если бы не Гуань Чжун, «мы все ходила бы с растрепанными волосами и запахивали халаты на левую сторону», т.е. уподобились бы варварам. Иными словами, Гуань Чжун и его царственный патрон гегемон-ба Хуань-гун в годы слабости и политического вакуума спасли Чжоу от активности жунов, рри-дав Чжунго силу и порядок.
Совершенно естественно, что гегемон-ба сознавал свою силу, ощущал слабость и даже ничтожество чжоуских ванов, в чьем домене к тому же часто бывали междоусобицы, в которые Ху-ань-гун по своему статусу вынужден был вмешиваться, наводя порядок. По строгим меркам сформулированной Чжоу-гуном теории небесного мандата это означало, что чжоуские ваны либо лишились дэ, либо их дэ ослабло настолько, что Небу впору было задуматься, не передать ли мандат более достойному. В первой половине VII в. до н.э. более достойным в Чжунго был именно циский Хуань-гун: он навел порядок, усмирил варваров, сохранил в нормальном состоянии столицу чжоуского вана с ее рби-тателями, помогал всем нуждающимся в его помощи. И ХуДнь-гун не раз намекал на то, что он мало вознагражден за свои Деяния, и даже намеревался было торжественно принести жертву Небу на священной горе Тайшань (это считалось прерогативой чжо-уского вана, который, впрочем, не был в состоянии ее реализовать), но Гуань Чжун отговорил его от столь рискованного поступка.
Вся сложность и деликатность ситуации заключалась в том, что Великий Мандат Неба на деле б^1л лишь сладостной идеей, ибо механизма реализации воли Неба не существовало. Добиться мандата силой было нельзя. А как доказать, что ты добродетелен настолько, что Небо должно предпочесть тебя пусть слабому, но отнюдь не погрязшему в пороках и пока еще легитимному чжо-ускому вану?
Стремясь к цели, Хуань-гун задумал и осуществил грандиозный поход на юг, в Чу, с целью унизить это могущественное царство и заставить его ответить за гибель чжоуского Чжао-вана. Но чуский правитель сумел ловко избежать ответственности, заметив, что в гибели Чжао-вана чусцы не виновны, ибо их в том районе вообще не было в ту пору, а чжоуского вана они чтут и готовы присылать ему положенную дань, о которой дис-цы им напомнили. Поход завершился миром, а спустя несколько лет, в 651 г. до н.э., на съезде князей в Куйцю, приуроченном к 70-летию Хуань-гуна, уже раздавались голоса, что Хуань-гун слишком заносится.
Гуань Чжун тонко чувствовал ситуацию, и далеко не случайно отговаривал своего патрона от рискованных шагов: чжухоу явно
52
не намерены были соглашаться с тем, что именно правитель Ци должен стать четвертым обладателем мандата. Чжоуский ван учел эту позицию Гуань Чжуна и встретил его в 649 г. до н.э. в своей столице с величайшими почестями, от которых смущенный гость решительно отказался. Но, как бы то ни было, гегемония Хуань-гуна подходила к концу: в 645 г. до н.э. умер Гуань Чжун, а в 643-м — сам Хуань-гун. После его смерти в Ци разгорелась ожесточенная' борьба за власть, результатом которой было ослабление Ци. Место ба оказалось вакантным, и его попытался занять правитель Сун, заручившийся поддержкой ряда небольших княжеств. Однако царство Сун, несмотря на решительные и жесткие меры его правителя, б^1ло слишком маленьким, чтобы стать гегемоном. А так и оставшуюся вакансию через несколько лет занял цзиньский Вэнь-гун (Чжун Эр).
Цзинь было крупнейшим из царств Чжунго, но еще в 745 г. до н.э. его правитель имел неосторожность выделить своему дядюшке богатый удел в Цюйво, после чего правители Цюйво стали соперничать с легитимными правителями Цзинь. Борьба за власть, в которую вмешивался и ван, пытаясь положить ей конец, долгие десятилетия шла с переменным успехом, пока мятежники в конце концов не добились своего. Однако к этому времени Чжунго уже имело гегемона-ба, причем его формальный приоритет признавали все, включая ставшее вновь единым царство Цзинь.
В 677 г. до н.э. власть в Цзинь попала в руки Сянь-гуна, имевшего несколько сыновей, но решившего сделать наследником младшего из них, сына любимой наложницы из жунов Ли Цзи. Ли Цзи была властной интриганкой, и жертвой ее хитрых интриг стали старшие сыновья Сянь-гуна, вынужденные бежать в другие страны. Бежал и Чжун Эр, второй по старшинству. Источники красочно описывают одиссею Чжун Эра, около 19 лет странствовавшего по различным царствам, испытавшего и горечь унижения, и радость обретения поддержки. На его родине, в Цзинь, после смерти Сянь-гуна власть была передана следующему по старшинству (после Чжун Эра) сыну умершего, а затем его наследнику. Советники правителя, взявшие власть в свои руки, покончившие с Ли Цзи и ее сыном, не очень-то хотели возвращения Чжун Эра (правда, вначале они предложили было ему трон, от которого тот отказался). Но после длительных странствий Чжун Эр с помощью царства Цинь возвратился на родину, сверг с трона племянника и в 636 г. до н.э. взял власть в свои руки, став Вэнь-гуном.
Вэнь-гун, которому к этому времени было уже 62 года, с юношеской энергией принялся за реформы в собственном царстве, Упорядочив администрацию и наказав виновных. Затем, используя военную мощь Цзинь, он покарал тех правителей, которые
53
плохо отнеслись к нему в дни его странствий, и помог тем, кто содействовал ему. Проблема возникла, когда царство Цзинь столкнулось с Чу, правитель которого некогда хорошо принял Чжун Эра, за что тот обещал в случае военного столкновения в будущем трижды отступить и таким образом расплатиться за гостеприимство. Именно так он и поступил, но в конечном счете чус-цы все же потерпели сокрушительное поражение. Вэнь-гун часть своих богатых трофеев преподнес чжоускому вану, получив от него почетный титул ба.
Стоит заметить, что еще чуть раньше этого, в 635 г. до н.э., Вэнь-гун цзиньский оказал важную услугу вану, избавив его от очередного мятежного претендента на трон. Тогда ван предложил Вэнь-гуну в качестве награды некоторые земли, однако цзиньский правитель попросил другой милости: права после смерти быть внесенным в могилу по подземному переходу, что было прерогативой вана. Ван решительно отказал в просьбе, поучительно заметив, что ни одного из своих священных прав никому не уступит — разве что Небо само вручит Вэнь-гуну свой мандат. В этом случае он, ван, скромно удалится в дальние края.
Ситуация очень знакомая: как и циский Хуань-гун, цзиньский Вэнь-гун ощущал свою мощь, помогал вану выжить и вполне искренне считал, что именно он, а не слабый и беспомощный чжоуский ван должен быть как-то выделенным, пусть вначале хотя бы в форме обладания одной из прерогатив, положенных сыну Неба. Но, как и в случае с циским Хуань-гуном, чжоуский ван держался твердо, ссылаясь на небесный мандат, который формально оставался у него, ибо Небо не подавало знака об изменении своей воли. И Вэнь-гун был вынужден с этим согласиться, не получив в качестве утешения даже должности ба. Лишь в 632 г. до н.э., после разгрома Чу и преподнесенных вану трофеев, он стал ба. Но был им только четыре года, после чего скончался.
Следует сказать, что за те немногие годы, что Вэнь-гун провел на своем троне в качестве ба, он сделал немало, в частности добился, как и в свое время циские Хуань-гун и Гуань Чжун, успехов в упорядочении Чжунго и даже способствовал укреплению позиций вана. Достижения его оказались столь значительными, что после его смерти Цзинь еще на протяжении века—полу-тора оставалось сильнейшим из царств, так что его правители, фактически сохраняя за собой функции гегемона-ба, заботились о наведении порядка в Чжунго, помогая отверженным или изгнанным законным правителям царств и княжеств и т.п. Но официально титулом ба эти правители обычно не обладали.
Китайская историографическая традиция исходит из того, что всего в чжоуском Китае было пять ба, назьгеая при этом различные
54
имена в разных версиях. И действительно, в отдельных источниках подчас упоминается имя какого-либо из правителей, будто бы получившего от вана должность ба. Но это было уже позже, когда такая должность практически не имела значения. Главных же ба в чжоуской истории было только два, о которых было рассказано выше. Оба они сделали весьма важное общее дело: не дали распасться чжоускому государству в наиболее критическое для него время, в VII в. до н.э. Позже феномен политического вакуума исчез и был заменен борьбой сильнейших за преобладание – борьбой, в которой чаще всего на передний план выходило все то же могущественное царство Цзинь, длительное время выполнявшее функции государства-ба, хотя временами демонстрировали свою мощь и другие — Ци, Цинь, Чу и даже далекие южные У и Юэ.
2. СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА КИТАЯ В VII-VI вв. до н.э.
Социально-политическая реальность раздробленного и поглощенного междоусобной борьбой Китая в период Чуньцю может быть истолкована в понятиях феодального общества и феодальной государственности. Речь не идет о феодализме как формации в рамках известной схемы, которая длительное время господствовала в отечественном обществоведении и все еще находится на вооружении в исторической науке КНР. Феодализм, в полном соответствии с принятым мировой историографией толкованием этого феномена, есть общественно-политическая система, характерная для децентрализованных государственных образований и отличающаяся определенным комплексом взаимосвязанных и взаимообусловленных институтов и идей, принципов и норм поведения, преобладающих типов социальных связей и ценностных ориентаций. В частности, имеются в виду существование аристократического родства и могущественных всесильных знатных кланов (феодальные дома или роды), опирающихся на наследственные крупные земельные владения (уделы, феоды, вотчины), а также связанные с этим междоусобная борьба и местничество титулованной знати. Для структуры, о которой идет речь, характерно наличие таких институтов, как иерархия к вассалитет со строгим соблюдением кодекса чести и принципов аристократической этики, нормы рыцарской доблести, включая культ преданности господину, сюзерену, а также культ аристократизма.
Все эти важнейшие черты и признаки феодализма были характерны для чжоуского Китая периода Чуньцю, особенно в
55
VII—VI вв. до н.э. Ван не имел реальной власти за пределами своего домена, но сохранял сакрализованную харизму, считался сыном Неба и имел право на ряд важных привилегий, преимущественно ритуально-церемониального характера. Только он имел безусловное право на титул «ван» и б^хл безусловным господином, сюзереном для всех своих вассалов, включая и могущественных гегемонов-ба: И если некоторые из потенциальных вассалов, как, например, правители Чу, самовольно начинали именовать себя ванами, это не признавалось в центре, в Чжунго, где самозванца по-прежнему именовали его старым титулом.
Как верховный сюзерен ван имел исключительное право инвеституры, и хотя это право во многом превратилось в формальность, оно тщательно сохранялось: специальные посланцы вана ездили в царства и княжества, дабы в, торжественной обстановке в храме предков правящего рода вручить новому правителю жезл и другие аксессуары его власти. Сохранилось, хотя и в сильно урезанном виде, и право вана в некоторых случаях вмешиваться в дела царств, в частности назначать (или утверждать) крупнейших сановников в них.
Таким образом, связующим единством чжоуского Китая продолжал быть ван, сын Неба. Но подлинным властителем и в силу этого безусловным сюзереном для вассалов вана был ба, всевластный, но нелегитимный хозяин Чжунго. Эта малохарактерная для любой другой страны ситуация была привычной для Китая именно потому, что Китай со времен Чжоу-гуна был ориентирован на примат этического детерминанта и что поэтому в нем формально царил культ высшей этики, рядом с которой грубая сила занимала скромное второе место. Правда, здесь нужны некоторые оговорки. Данные источников свидетельствуют о том, сколь мало считались чжоуские аристократы с этическими принципами как таковыми: в жесткой борьбе за власть, ради желанного трона они обычно шли на любые интриги и поступки, вплоть до коварных убийств правителей, истребления целых кланов, в том числе родственных. Таким образом, в этом плане Китай ничем не отличался от других стран с их жестокими междоусобицами и взаимным истреблением знатных родов.
Можно добавить к сказанному, что не только высшие этические соображения и боязнь нарушить легитимность власти сдерживали гегемонов-ба от того, чтобы заменить собой фигуры чжо-уских ванов, — этому мешало явственное нежелание князей-чжу-хоу менять слабого, но легитимного правителя-вана на сильного и всевластного, затб пока что нелегитимного гегемона-ба. Нежелание подобного рода легко понять: давление нового сына Неба в таких обстоятельствах сказалось бы на каждом из них много
56
ощутимее, чем то, которое было при безвластном чжоуском ване. Однако, принимая все эти вполне практические соображения во внимание, нельзя не коснуться и этической, точнее, ритуально-этической стороны проблемы.
Конечно, высшая чжоуская владетельная знать пренебрегала элементарными этическими нормами в борьбе за власть, а князья не хотели давать слишком большую волю гегемону-ба, предпочитая иметь в качестве сына Неба слабого вана. Но весь этот очевидный эгоистический расчет как бы останавливался при выходе событий на высший уровень ритуала, нормы которого были продиктованы незыблемой этикой Великого Мандата Неба. Эти нормы были не только нерушимы — они были священны. Это была высшая сакральная ценность чжоуского Китая. И потому вполне естественно, что все эгоистические расчеты отходили на задний план, а на передний выступало самое главное: на чьей же стороне сегодня Небо? И видны ли какие-либо признаки изменения его воли?
Видимых признаков не было. А чжоуские ваны и их умные советники делали все, что было в их силах, дабы убедить всех, что Небо еще на их стороне, причем именно потому, что они хорошо знают высший этический стандарт, старательно его соблюдают, да еще и, кроме того, пользуясь признанным своим старшинством, назидательно поучают всех тех, кто вольно или невольно от него отступал. В итоге в чжоуском Китае периода Чуньцю создавалась ситуация сосуществования двух высших сюзеренов: один царствовал и пользовался покровительством Неба, а другой реально управлял Поднебесной, но Небом как бы не был замечен. И все преимущества такого положения оказались На стороне того, за кем стояло Небо. В этом — в отличие от других аналогичных структур, например Японии времен сёгуната (XII—XVI вв.), — была специфика чжоуского Китая, определившая многие важные параметры развития китайской цивилизации и всего китайского общества в последующие века.
Все чжухоу считались наследственными властителями своих Царств и княжеств, причем принцип наследования был аналогичен тому, который существовал в доме Чжоу, откуда он, видимо, и был заимствован: правитель мог назначить своим наследником любого из сыновей. Правда, после смерти правителя престол наследовал не обязательно тот из сыновей, кому хотел Передать трон отец, а чаще тот, кто сумел преуспеть в борьбе за Наследование и кому больше везло. Ван вручал победителю инвеституру. Такой порядок, естественно, многим не нравился, ибо способствовал нестабильности. Но, хотя на совещаниях князья подчас пытались изменить столь способствующую смуте ситуацию
57
и сделать нормой наследование старшими сыновьями законн^1х жен, этот принцип примогенитуры, характерный для европейских феодальн^1х монархий, в Китае так и не прижился. Зато укрепилась другая очень важная чжухоу норма. Самой большой привилегией, делавшей их действительно хозяевами в собственном доме и превращавшей в суверенов в рамках своего царства или княжества, стало безусловное право создавать новые уделы, которым до 745 г. до н.э. пользовался один лишь чжо-уский ван. Впрочем, нельзя сказать, чтобы князья этим правом злоупотребляли.
Дело в том, что создание удела, котор^тм нередко становилось аннексированное соседнее княжество, влекло за собой рождение влиятельного клана цзун-цзу, глава которого становился наследственным владельцем удела-клана. Чаще всего, хотя и не обязательно, владельцы таких уделов (в крупном царстве за редким исключением их насчитывалось не больше шести, в средних и мелких — об^тчно не более трех—пяти) б^зли цинами. Это и явилось причиной устойчивого представления, что цины — следующая после чжухоу ступень иерархической лестниц^:. На деле это не совсем так. Специальный анализ заставляет предположить, что должность цина (шан-цин, просто цин, ся-цин) предоставлялась либо высшим государственным деятелям в царстве, вроде Го и Гао в Ци, статус котор^1х в свое время подтверждался волей самого вана, либо руководителям армий, а иногда, как в Цэинь, и их заместителям. Однако это не значит, что кажд^1й из цинов имел свой удел. В том же Цзинь одно время цинами были сразу трое из клана Ци, занимавшие высшие воинские позиции в шести цзиньских армиях. Но тем не менее можно считать нормой, что наследственной знатью, владевшей уделами-вотчинами и возглавлявшей правящие кланы в этих уделах, были прежде всего те из восточночжоуских аристократов, кто имел должность цина.
Должность цина была очень влиятельной, что хорошо почувствовали правители Лу, когда в VI в. до н.э. они практически вовсе лишились власти, которая была поделена между тремя цина-ми, их отдаленн^тми родственниками. Словом, чжухоу достаточно быстро поняли, насколько невыгодно для них создание новых уделов, ведущее к ослаблению их власти. Таким образом, ццн — это министерского или генеральского ранга должность, связанная с высоким статусом и наследственным владением уделом, с ролью главы клана или ближайших (как в цзиньском клане Ци) его родственников. Но при этом каждый цин оставался просто аристократом, т.е. личностью, имевшей право на звание дафу (большой человек).
58
Термином «дафу» в текстах именовали тех же цинов, равно как и аристократов более низкого ранга, владевших служебными кормлениями или получавших содержание (лу) из казны. Другими словами, понятие дафу перекрывало собой узкоспециальную и много реже встречавшуюся должность цин. Нередко в текстах, когда речь идет об' аристократии высшего ранга, употребляется бином цин-дафу. Но при всем сходстве и порой взаимозаменяемости терминов «цин» и «дафу» между ними существовала и разница: цин обязательно был главой удела-клана, наследственным аристократом или его ближайшим влиятельным родственником, имевшим важную должность и владевшим частью этого удела-клана как наследственным и передаваемым по наследству имением, своего рода вотчиной.
Дафу мог занимать такое же положение, но редко, лишь в виде исключения. Как правило, дафу отличался от цина именно тем, что не имел вотчины, не был наследственным аристократом, а лишь пользовался, владел определенной частью территории удела-клана, часто городом с прилегающей округой, доходами с которой кормился. Иными словами, аристократы-дафу любого происхождения, включая и сыновей вана и чжухоу, были лишь должностными лицами, служившими своему сюзерену и получавшими от него содержание (кормление). Как правило, служили дафу прежде всего и главным образом в качестве воинов на боевых колесницах. Они либо имели свою колесницу, либо были помощниками сюзерена на его колеснице, что считалось очень почетным назначением. Впрочем, дафу, как и цины, в свободное от военных забот время имели и иные функции, занимая различные должности или выполняя отдельные поручения административного, дипломатического, ритуально-церемониального и иного характера.
Цины и дафу в период Чуньцю, прежде всего в VII—VI вв. до н.э., представляли собой если и не самый высший, то в любом случае очень высокий и весомый слой, элитную часть аристократии. Феодальная структура немыслима без оформления социального слоя аристократии, причем феномен аристократии имеет свои очевидные признаки, среди которых важную роль обычно играли элементы аристократической этики, благородства и кур-туазности, которые в восточночжоуском Китае наиболее полно отражал термин «ли» (этика и ритуальный церемониал).
Цины и дафу были элитной частью чжоуской знати. Однако существовал и гораздо более многочисленный слой низшей аристократии. В источниках встречаются упоминания о том, как того или иного из этого слоя сделали дафу. Отсюда следует вывод, что помимо дафу (включая и цинов) были и, так сказать, нетитулованные
59
аристократы. По рождению они обычно принадлежали к тем же влиятельным и богатым удельным клановым группам и, получая соответствующее образование, воспитание и право принадлежать к знатным верхам, находились в числе нетитулованных вассалов и вначале не имели сводного обозначения. Лишь позже, в основном с VI в. до н.э., низшую часть чжоуской знати стали именовать емким термином «ши» (чиновник, воин, мужчина) и воспринимать как тот естественный фундамент титулованных правящих верхов, из которого чжоуская знать черпала своих верных помощников, ревностн^1х исполнителей, преданн^1х чиновников и слуг типа оруженосцев, но не прислуги!).
Стоит особо заметить, что восточночжоуская знать в отличие от средневековой европейской с ее строгой сословной замкнутостью не была закрытым сословием. Напротив, в ее число сравнительно легко попадали смелые воины, хорошо проявившие себя безродные приближенные того или иного правителя, порой даже из числа пленных инородцев. Правда, это не представляло собой массового явления, но и не имело характера исключения. Напротив, это было нечто вроде нормы: умные и способные должны всегда выдвигаться — таков закон китайского государства, китайской администрации. Впрочем, выходцы из иных слоев вслед за выдвижением обычно обретали уделы или кормления (города), формировали собственные кланы и быстро становились неотличимыми от остальных аристократов, ибо воспитывались в единых стандартах.
Междоусобные войны вели, как правило, к усилению крупных царств и аннексии малых и слабых. За годы Чуньцю, согласно подсчетам американского синолога Суй Чжоюня, можно насчитать многие сотни войн. Из 259 лет этого периода лишь 38 обошлись без них. Войны шли то в одном месте, то в другом, а порой и в нескольких сразу. Количество вовлеченных в них владений, если взять сводный индекс, равняется 1200, уничтожено и аннексировано — ПО владений (включая и мелкие варварские), так что к концу Чуньцю их осталось весьма немного. В следующий за ним период Чжаньго было всего семь крупных владений и еще очень незначительное количество небольших, включая такие, как домен вана или Лу.
Воевали главным образом аристократы, ибо основной силой в бою была колесница с тремя воинами — колесничим в центре (в момент сражения он мог остановить лошадь, закрепить удила и стрелять), копьеносцем справа (широкий простор д^я правой руки) и хозяином колесницы слева, имевшим достаточный маневр для использования различного оружия, прежде всего лука. За колесницей следовала вспомогательная группа, состоявшая
60
бычно из 10 воинов пехоты. Основной бой шел между колесни-° и пеХ ота самостоятельных функций не имела и лишь подгаживала знатных воинов, бравших на себя всю тяжесть сражения — ситуация, весьма характерная и для рыцарских сражений в феодальной Европе. Интересно заметить, что в источниках нередко описываются казусы, свидетельствующие о том, что даже в бою не исчезала присущая знати рыцарская куртуазность. Так, порой аристократ приветствовал своего противника, особенно если это был высокопоставленный военачальник или сам правитель, со знатными пленными также обращались по-рыцарски и т.п.
Политика ведения войн была очень непоследовательной: сегодня войны велись с одним царством, завтра — с другим, иногда даже в коалиции со вчерашним противником. Пленников возвращали или меняли. Частые внутренние усобицы, заговоры и перевороты вели к тому, что обычным делом стало бегство аристократа из своего государства в чужое, а то и скитания по чужим странам. Не всегда скитальца встречали тепло, но всегда принимали, снабжали необходимым, иногда давали богатое кормление, порой и должность. Известен, по крайней мере, один случай, когда беглый аристократ из Чэнь получил в Ци заметную должность, а спустя несколько веков именно его потомки оказались правителями этого царства. Если прибавить к сказанному, что аристократов различных царств и княжеств порой связывали родственные и семейные узы (правда, это было более характерным для князей-чжухоу, нежели для цинов-дафу и тем более тех, кто стоял ниже их), что в промежутках между войнами велась активная дипломатическая деятельность и знатные представители царств и княжеств часто посещали друг друга, а также если принять во внимание, что все аристократы духовно, по статусу и воспитанию, стереотипам поведения и речи, традициям и культуре, ритуалам и церемониалу были весьма близки друг другу, то рыцарские формы общения с противником в бою не покажутся чем-то странным.
Аристократы были в центре внимания тех, кто писал летописи, а затем сводные исторические сочинения. Это и понятно: знать была властью, представители власти — основа любой государственности, летописи же и сводные труды посвящались в чжоус-ком Китае прежде всего описанию политических событий. Потому столь ярко обрисованы в них те, кто действовал на политической арене и находился в составе правящей элиты — ваны и °°. чжухоу и цины-дафу. О тех, кто б^1л ниже дафу, применительно к VII—VI вв. в текстах говорится очень немного, хотя именно из них, среднего и низшего слоя знати, постепенно складывался мощный и со временем ставший фундаментом империи
61
социальный слой ши. Спецификой этого слоя было то, что он пополнялся не только за счет представителей боковых линий знати, которые в четвертом-пятом поколениях постепенно утрачивали свои генеалогические права на родство с высшими представителями аристократии, но и за счет честолюбивых и энергичных выходцев снизу — одно из важных значений термина ши — мужчина-воин — подтверждает именно это (вспомним о вспомогательных отрядах пехоты при колесницах в бою).
В распоряжении специалистов есть несколько типов социальных лестниц. Их схемы представлены в текстах, имеющих отношение к Чуньцю. Если свести их воедино, то складывается достаточно интересная и динамическая картина. Верхи, т.е. знать, правящий аппарат государств, — это тянь-цзы (сын Неба), чжухоу, цины и дафу. Ба как специально вычлененная категория в схемах отсутствует — это те же чжухоу. В схемах, относящихся к концу периода, все чаще дафу делятся на шан-дафу и ся-дафу — старших и младших. И отдельно упоминаются ши как самый низший слой управленческой аристократии. Далее в схемах отведено место простому народу — это крестьяне (шужэнь), ремесленники и торговцы (гун-шан). И наконец — слуги и рабы. Если сопоставить данные схемы с иными текстами, в частности с изложением проектов реформ Гуань Чжуна в Ци, то можно заметить, что слово ши вначале использовалось для обозначения воинов, позже стало употребляться также и для обозначения знати вообще (это хорошо видно, например, из текста трактата Или) и лишь в конце периода Чуньцю — для обозначения сформировавшегося слоя чиновничества, превратившегося в фундамент всей системы управления. Важно заметить, что в структуре Чуньцю торговцы и ремесленники, как и в предшествующие века, тоже были преимущественно, если не исключительно, на положении мелких служащих, живших в городах, работавших на заказ и получавших обеспечение в основном за счет казны. Если верить Сыма Цяню, и сам Гуань Чжун в молодости был такого рода торговцем, близким к своему господину и выполнявшим его поручения. '
Таким образом, все варианты социальных лестниц в Чуньцю сводятся к тому, что существовали две основные социальные группы: с одной стороны, это были правящие феодальные верхи с обслуживавшими их воинами, торговцами и ремесленниками (т.е. специалистами по снабжению знати и воинов всем необходимым), а также слугами и рабами различных категорий, удовлетворявшими весьма многочисленные и все возраставшие потребности как аристократии, так и аппарата управления в государствах (все они были горожанами); с другой — крестьяне-шужэнь, жители деревень-общин. Обращает на себя внимание, что во всех
62
перечислениях — это сохранялось и впоследствии — слой земледельцев занимал место сразу же после правящих верхов и счи-ался социально более высоким, чем все остальные (т.е. обслуживающий персонал, начиная с ремесленников и торговцев). Собственно, это и был народ, тот самый простой, производящий и обеспечивающий основные жизненные потребности государства народ, во имя которого и для блага которого — как это начало утверждаться еще до времен Конфуция и превратилось в нормативную формулу после оформления его доктрины и превращения конфуцианства в официальную государственную идеологию — только и существуют государства и аппараты управления ими во главе с правителями.
Здесь очень важно обратить внимание на то, насколько гармонично феодальная структура децентрализованного военно-политического образования вписывается в привычные для всего Востока принципы охарактеризованного некогда К. Марксом «азиатского» (государственного) способа производства. Если использовать этот марксистский аналитический термин для обозначения тех явлений, которые реально имели место в древнем мире, и, в частности, на традиционном Востоке, то становится очевидным, что до эпохи приватизации (т.е. в обществах, не знакомых с античного типа рыночно-частнособственнической системой отношений и обслуживающими эту систему институтами — развитым правом, охраняющим статус свободного гражданина и собственника; аппаратом власти, поставленным на службу общества и строго контролируемым правовыми нормами и соответствующими им процедурами; выборностью администрации и полной "подотчетностью ее электорату, т.е. гражданам, имеющим избирательные права, и т.п.) господство «азиатских» (государственных) форм власти было абсолютным. Чаще всего это господство выражалось в виде существования централизованных государств и больших империй, созданием которой завершилась и эволюция древнекитайского общества. Но даже в тех не слишком частых и длительных случаях, когда на передний план выходила явственно выраженная политическая децентрализация (независимо от той конкретной формы, которую она принимала, включая и феодализм), ситуация в целом не изменялась: «азиатская» форма власти-собственности оставалась «азиатской» (государственной). Отсутствие частной собственности оставалось «ключом к восточному Небу», а феодализм — никакой не формацией в привычном восприятии, но только и именно структурой, свойственной децентрализованному обществу (правда, не всякому децентрализованному обществу и не обязательно — но это уже совсем Другой вопрос).
63
В текстах, касающихся политической истории Чуньцю, в том| числе в летописях и комментариях к ним, о простом народе говорится мало и, как правило, вскользь. Это и понятно: крестьяне практически никакой роли в политической жизни той эпохи не играли, а основными действующими лицами выступали те, кто был связан со слоем управителей, будь то представители знати, воины, профессионалы-ремесленники, слуги или даже рабы, евнухи и т.п. Но в распоряжении синологов есть памятник народной литературы — сборник стихов, песен и официальных гимнов «Ши-цзин», где собрано немало данных о жизни простых людей, об их стремлениях и страданиях. Считается, что «Шицзин» был в свое время отредактирован Конфуцием, который из первоначальных примерно трех тысяч известных ему фольклорных и ритуальных произведений отобрал лишь 305, вошедших в сборник, позже канонизированный конфуцианцами и тщательно изучавшийся, как и остальные конфуцианские каноны, каждым новым поколением и особенно той его частью, которая стремилась сделать карьеру.
В народных песнях наибольшего по объему раздела книги — «гофын» (нравы государств) — собраны, по мнению специалистов, преимущественно произведения периода Чуньцю. Здеср преобладают обычные жизненные мотивы и темы — любовные, матримониальные, жалобные, скорбные. Люди радуются скорой свадьбе, жалуются на разлуку с любимым или союз с нелюбимым, сетуют на жизненные сложности и невзгоды, тревожатся за ушедших на войну, скорбят о гибели близких и т.д. В песнях нередки бытовые мотивы — желание сшить любимому платье, готовность трудиться во имя блага близких, особенно престарелых родителей и малых детей. Есть жалобы на непосильный труд, упреки в адрес тех, кто сам не работает, а ест много и живет припеваючи (явные намеки на социальное неравенство), и утро-зы бросить родные места и уехать далеко, где будет жить легче. Обращает на себя внимание тот факт, что практически нет песен о заботах и деятельности ремесленников и торговцев, рабов и слуг — людей, живущих интересами группы социальных слоев, прямо не связанных с земледелием.
Социальные мотивы в сборнике звучат весьма мягко:
В барашковой шубе с каймой из пантеры Ты с нами суров, господин наш, без меры…
Зато ярко выражена лояльность и преданность, хотя и не без упрека:
На службе царю я усерден, солдат. Я просо не сеял, забросил свой сад. Мои старики без опоры…
64
В разделе од, где немало сказано о сильных мира сего, есть дидактические мотивы и поучения в адрес верхов и даже самого правителя:
Если пойдешь, государь, сам ты стезею добра, Люди с тобой пойдут, сгинут и злоба, и гнев.
Стихи, песни и оды VIII—VI вв. до н.э., составляющие большую часть канона, — не документальный источник. Но тем не менее эти рифмованные строки весьма информативны, причем само отсутствие упоминаний о чем-либо уже говорит читателю о многом. Так, например, можно сделать вывод о том, что социально-экономическая структура Чуньцю еще почти не знала товарно-денежных– отношений и рынка, хотя бы и контролируемого властями, — в лучшем случае в песнях можно встретить редкие упоминания о меновой торговле, известной человечеству с глубин первобытности. Нет упоминаний о деньгах, а в представлении людей богатство оказывается принадлежностью знати, т.е. должности, власти.
Отсутствуют и батальные мотивы. Конечно, «Шицзин» не эпос. Эпоса — особенно такого, как индийская Махабхарата или греческая Одиссея, — чжоуский Китай, где не принято было воспевать войны и героизм ратного подвига, вообще не знал, хотя они были чуть ли не ежедневной реалией жизни. В песнях много жалоб на тяжелый ратный труд, но нет описаний сражений и воспевания победителей. Можно было бы подумать, что это результат редактуры Конфуция, не уважавшего силу, в том числе и военную, и выше всего ставившего воспитание добрых чувств, этические нормы, гуманное отношение к людям и т.п. Но Конфуций со всеми его идеями — плоть от плоти китайской традиции, чем он и гордился. Дело, видимо, в том, что демифологизированная шанско-чжоуская традиция просто не была подходящей почвой для героического эпоса, тесно связанного с развитой и чуть ли не все собой вытесняющей мифологией.
Деление восточночжоуского общества на два основных вида социальных групп (земледельцы и все остальные) не следует воспринимать буквально, оно весьма условное. Тексты позволяют заключить, что четкой грани между земледельцами и городским населением, включая знать, не было. Анализ многих случаев использования в текстах термина «гожэнь» показывает, что заключенное в нем понятие охватывало представителей разных категории горожан, включая и тех, кто имел поля неподалеку от столицы, где подчас апелляцией к гожэнь решались весьма серьезные роблемы. Что касается этих апелляций, то они отнюдь не были игрой в демократию. Гожэнь представляли собой реальную силу со своими интересами. Все они так или иначе служили правящим
3-5247
65
верхам и зависели от них, ибо все городские жители — ремесленники, торговцы, слуги — напрямую были связаны с обслуживанием знати, работали по ее законам и кормились зЗ счет осуществлявшейся ею как аппаратом власти редистрибуции избыточного продукта общества. В обстановке постоянных междоусобиц, войн и заговоров, переворотов, интриг и вообще политической нестабильности от этой массы гожэнь, от ее поддержки или несогласия многое могло зависеть.
Все это говорит о том, что постулат, согласно которому народ — основа, а правители обязаны заботиться о нем и считаться с ним, не был вьдуман Конфуцием и его последователями. Напротив, принципы именно такого типа взаимоотношений между правящими верхами и производящими либо обслуживающими их низами складывались давно и утверждались на практике веками, вполне оправдывая себя как с точки зрения верхов, так и с позиции низов. И хотя по социальной позиции, образу жизни, характеру воспитания и поведения, да и по многим иным параметрам между аристократией и народом (особенно земледельцами) была едва ли не пропасть, на деле эта пропасть не была непреодолимой, ибо не зиждилась на сословной спеси верхов и сословной приниженности низов, что было столь характерным для феодальных структур средневековой Европы. И даже если политическая структура в Чуньцю не отличалась устойчивостью и стабильностью, положение дел в целом от этого не менялось. Низам в конечном счете было не очень важно, кто именно сядет на трон и кого из аристократов выгонят из родного царства. Зато верхам было важно заручиться поддержкой низов в случае угрозы со стороны врага или внутреннего заговора.
Вот эта-то зависимость, во всяком случае в большей степени верхов от низов, нежели наоборот, была, пожалуй, доминантой во взаимоотношениях между правящей знатью и управляемым ею народом. Нередко она камуфлировалась клановыми связями, весьма разветвленными и искусственно сохранявшимися в рамках цзун-цзу, в аристократических уделах-кланах, едва ли не во всех царствах. Однако закамуфлированность такого рода ничуть не противоречила реальной готовности всех членов клана, низы которого состояли из простых земледельцев, слуг, торговцев или ремесленников, даже рабов (живя в том или ином уделе-клане, и они считались как бы его членами, пусть самыми низшими), выступать вместе с господином за его интересы, отождествлявшиеся с интересами клана в целом. В текстах и в реальной жизни, которую эти тексты достаточно полно и адекватно отражали, абсолютно господствовала впоследствии очень четко сформулированная Конфуцием идея о том, что государство — это большая
66
семья Имелось в виду то немаловажное и для всех вполне очевидное обстоятельство, что в рамках любого социально-политического образования верхи брали на себя функцию отца в масштабе не только своего клана (где иначе никто и не мыслил), но и государства в целом. Низы же выполняли функцию многочисленных домочадцев большой семьи, в которой у каждого свое дело и свои обязанности, но где вместе с тем все осознают себя членами большого, спаянного общими интересами коллектива, возглавляемого всеми признанным главой, отцом-патриархом.
Разумеется, представление о том, что государство и даже большой клан типа цзун-цзу — это просто большая семья, аллегорично не в меньшей мере, нежели представление о том, что правящий Поднебесной по Великому Мандату Неба правитель — сын Неба. И хотя эту аллегорию все вполне осознавали, она не мешала, а, напротив, помогала, в частности предотвращала превращение частей общества в замкнутые сословия и предоставляла шанс умным и способным, энергичным и амбициозным. А это с точки зрения стабильности и процветания любой структуры немалого стоит. И зафиксированная в канонах конфуцианства идея о том, что Поднебесная — для всех (тянься вэй гун), и идеи второго великого конфуцианца древности Мэн-цзы о том, что народ — это самое главное, а все остальное существует во имя его блага, что не понимающий этого правитель — не правитель и заслуживает низвержения, в конечном счете восходят именно к представлениям о неразрывности верхов и низов. И правящие верхи, и производящие либо обслуживающие низы — части единого социально-родового тела, единого живого организма. Разумеется, у головы этого организма одни функции, у остального тела и особенно его рабочих частей, прежде всего рук и ног, — другие. Но все взаимозависимо, все равно необходимо для нормального функционирования организма в целом.
Организмический взгляд на социум не был в истории китайской мысли чересчур навязчивым, но подспудно он едва ли не всегда существовал и оказывал свое воздействие, постоянно напоминая о внутреннем единстве и непременной взаимозависимости верхов и низов. Но, постулируя такого рода единство и взаимозависимость и тем самым сыграв существенную роль в том, что социально-политическая структура Чуньцю не превратилась в систему замкнутых сословий, традиционный китайский взгляд на верхи и низы общества тем не менее всегда отчетливо видел разницу между теми и другими. И разница эта в конечном счете сводилась к тому, чем мыслящая голова отлична от работающих рук и ног единого организма.
67
Веками складывавшаяся чжоуская феодальная знать, наследственная аристократия с ее высокоразвитыми принципами и нормами ритуального церемониала, рыцарской этики и т.п. б^хла своего рода эталоном, ориентиром для всех остальных. Однако представители правящего слоя отнюдь не всегда придерживались норм этики и соблюдали церемониал, а что касается добродетели многих его представителей, то о ней в условиях кровавых междоусобных схваток, заговоров и переворотов, коварных убийств близких родственников, включая отцов и братьев, не стоило бы всерьез и говорить, если бы не тексты, подобные «Или». Имеются в виду тексты, упорно напоминавшие о традиции, опиравшиеся на нее и тем самым укреплявшие ее, отметавшие все ее нарушения как нечто второстепенное, досадное, но не слишком существенное. Значимость такого рода текстов — а их было немало — в том, что все они как бы напоминали: жизнь есть жизнь и в ней произойти может все что угодно, но норма остается нормой. И всем новым поколениям следует ориентироваться именно на нее. При этом имелось в виду, что норма была чтимой и обязательной для всего народа, а не только для знати. Но для того, чтобы народ ориентировался на традицию, на древнюю норму и воспринимал все отклонения как досадные помехи, нужна была целенаправленная идеологическая индоктринация. И эта индоктринация стала реальным фактом жизни чжоуского Китая уже в период Чуньцю. Впрочем, для этого были и иные серьезные причины, о которых стоит сказать особо.
3. ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ЧЖОУСКОГО КИТАЯ
Рационализированная, демистифицированная и демифологизированная в своей глубинной основе ментальность высших слоев сыграла едва ли не решающую роль как в судьбах восточно-чжоуской государственности, так и в истории Китая в целом. Дело в том, что суеверия и верования крестьянских низов находились на достаточно примитивном уровне ранних религиозный систем и не могли оказать существенного воздействия на религию верхов. Религия же верхов (начиная с приносивших жертвы шан-ди шанцев) оказалась в Чжоу, особенно после трансформации шан-ди сначала в Шанди, а затем в Небо, весьма специфическим феноменом. Ей не были свойственны ни развитый миф, ни культ полубожественных героев-демиургов, ни сотериологические идеи спасения в загробном мире, ни идея молитвы во имя избавления от грехов. У нее не б^хло церковной организации, священн^хх догматов, классических канонов. В некотором смысле можно сказать,
68
что древнекитайской религии не существовало вообще, а вместо нее были постепенно отмиравшие либо трансформировавшиеся
ементы раннерелигиозной системы первобытных времен, имевшие хождение в основном среди социальных низов.
Эквивалентом отсутствующей официальной религии развивавшегося государства стали аристократическая этика и ритуальный церемониал. Высшим сакральным авторитетом было всемогущее, но недоступное Небо. Ритуально-этическая связь с Небом по-прежнему (как то бывало и в Шан с предками шан-ди) осуществлялась прежде всего самим ваном, а основополагающая идея небесного мандата, тесно связанного с добродетелью-благодатью дэ в правящем доме, была при всей своей рациональности едва ли не единственной религиозно-мистической доктриной, определявшей мировоззрение правящих верхов, а через них — и всего чжоуского Китая. Впрочем, мистики и здесь было немного, ибо адаптивный характер связи сына Неба с Небом был вполне очевиден. Разработка этой системы шла, естественно, по линии создания документальной основы превосходства вана как высшего носителя дэ, как символа, продолжавшего сохранять некое высшее социально-культурное единство чжоуского Китая.
В отличие от писцов-грамотеев в ближневосточной древности, озабоченных прежде всего хозяйственной отчетностью на храмовых землях, или брахманов в Индии, обычно в устной форме фиксировавших ведические сказания и комментарии к ним, составители документов в эпоху Чжоу были прежде всего чиновниками-летописцами или чиновниками-историографами. И если в западночжоуские времена на их долю выпадало главным образом создание текстов типа инвеституры или краткого описания заслуг, важных событий (надписи на бронзе), то в VII—VI вв. именно их усилиями начали изготовляться документы иного рода. Речь идет о так называемых главах второго слоя «Шуцзина», датируе-м^1х как раз этим временем. Главы эти, насколько можно судить, писались специалистами своего дела при дворе вана, в его столичном архиве, а главной целью их составления было доказать, что высшее право на власть в Поднебесной должно остаться за легитимным ваном, а также объяснить, почему это важно.
Сравнение с мифами ханьского времени, собранными и изданными в Китае сравнительно поздно, когда были учтены устные предания различных народов, вошедших в состав империи, показывает, что составители глав второго слоя «Шуцзина» щедро черпали из того же источника — те же или схожие имена, сюжеты и т.п. Но сравнение с ханьскими мифами показывает, как тщательно чжоуские историографы «очищали» древние предания, лишая их мифогероической и мифопоэтической основы и придавая
69
им звучание строго выверенных легендарных повествований, претендующих на полную достоверность. Псевдоисторические реконструированные рассказы были затем умело выстроены в линейно-циклический ряд в строгом соответствии с нормами и принципами теории небесного мандата и соответствующего восприятия в Китае глобального исторического процесса. Главным же итогом всей работы, о которой идет речь, было создание представления о золотом веке далекого идеализированного прошлого, который воспринимался как мир Высшей Гармонии и Абсолютного Порядка.
Нынешний текст «Шуцзина» начинается именно с глав, рассказывающих об этом. В первых из них идет речь о великих древних мудрецах Яо и Шуне. Яо был первым из легендарных императоров древности, о его деяниях рассказано немало и с нескрываемым восхищением. Он был воплощением высшей добродетели и выдающихся способностей. Его заслуги неизмеримы и неисчерпаемы. Яо упорядочил летосчисление, создал и укрепил империю, привел в состояние гармонии сперва своих близких родственников (девять кланов — цзу), затем свой народ (байсин, т.е. сто фамилий), а потом и весь мир, т е. Поднебесную (в данном случае употреблено сочетание ваньбан, все государства). После этого в Поднебесной наступила эпоха процветания и начался тот самый золотой век гармоничного порядка, о котором ностальгически вспоминается в первой главе «Шуцзина».
Мудрый Яо умело подобрал себе помощников, прислушиваясь при этом к мнению людей. Он не передал власть своему сыну, в способностях которого сомневался, а выбрал в преемники мудрого и добродетельного Шуня, зарекомендовавшего себя почтительностью к сварливым родителям и злым родственникам, умеренностью в образе жизни, исполнительностью, а также некоторыми административными способностями. Дав ему в жены двух своих дочерей, Яо еще раз проверил способности Шуня управляться с людьми, в данном случае с семьей, и, убедившись в том, что не ошибся, передал ему на склоне лет власть. После смерти Яо Шунь стал полным правителем Поднебесной и продолжил дело Яо. Он окончательно наладил отношения в семье, навел порядок в администрации и позаботился о системе наказаний, а также о регулярном контроле за работой аппарата власти. Шунь определил сферу действий своих помощников, унифицировал регламент, знаки власти, ритуалы, разделил Поднебесную на двенадцать регионов и приказал назначенным возглавлять их правителям управлять достойно, опираясь на способных и умных.
Как и Яо, Шунь передал свою власть не сыну, а наиболее достойному и умному из своих помощников. Им оказался Юй,
70
великий усмиритель разбушевавшейся природы, укротитель, водной стихии. Специальной главы о Юе в «Шуцзине» нет, да и вообще в отличие от Яо и Шуня он более похож на культурного героя, каких китайская мифология не знала и не прославляла. Юй в этом смысле блестящее исключение Он вошел в историю не как умелый управитель, ибо все необходимое в этом плане до него успешно сделал и Яо и Шунь, но именно как герой, чьи подвиги в борьбе с разбушевавшейся водной стихией в Конечном счете не только послужили на благо людям, но и как бы завершили общее дело, поставили точку на всем нелегком процессе социокультурных преобразований и политико-административных установлений, т.е. достроили стройное царство Гармонии и Порядка в Поднебесной.
Юй передал власть своему сыну, и именно от него Пошла, судя по главам второго слоя «Шуцзина», та самая династия Ся, о которой в немногих словах, скорее постулируя контуры, нежели излагая факты, впервые завел речь еще Чжоу-гун. Теперь в изложении историографов периода Чуньцю династия Ся выглядит уже достаточно убедительно. Основал ее великий Юй, продолжали дело Юя его преемники, и так было вплоть до последнего из них, презренного Цзе (имя его впервые появилось только в главах, о которых сейчас идет речь). Цзе утратил дэ династии Юя и тем привел Ся к гибели, заставив великое Небо отобрать у него мандат и передать его добродетельному шанскому Чэн Тану.
Так к VI в. до н.э. стала выглядеть легендарная предыстория Китая — та самая, которой столь мало интересовались шанцы и которую столь возвеличили в своих интересах чжоусцы. И не так уж важно, откуда взялись имена и деяния. Сыма Цянь в своей капитальной сводке упоминает о том, что среди тех, кому в начале Чжоу были даны уделы, можно встретить потомков Яо, Шуня и Юя. Видимо, это так и было, причем вполне вероятно, что предания соответствующих племенных групп были использованы при составлении легендарной предыстории В конце концов не так уж и важно, существовали ли на самом деле правители или вожди, именовавшиеся этими именами, совершали ли именно они те или иные поступки, которые впоследствии были им приписаны. Важно совсем другое предыстория должна была обрести славные имена великих мудрых правителей и выдающиеся их деяния. Таким образом должна была быть создана дидактическая модель золотого века, которая могла бы служить эталоном для следующих поколений. И эта модель была создана до середины VI в. до н.э., т.е. до Конфуция, который, как известно, в свое время восклицал: «О, сколь велик б^хл Яо как правитель! Небо велико, и лишь Яо соответствовал ему. Сколь славны его дела!. Сколь величественны Шунь и Юй!»
71
Показательно, что главы второго слоя «Шуцзина», писавшиеся в годы политической децентрализации и феодальных междоусобиц периода Чуньцю, являют собой наглядный контраст убогой реальности заговоров, интриг, переворотов и далеких от добродетели норм поведения правящих верхов чжоуского Китая Но подтекст этих умело сконструированных и оказавших свое воздействие в первую очередь на те же верхи глав очевиден: вот он, истинный эталон добродетели и гармонии, вот к чему следует стремиться, вот какой была и вновь должна стать Поднебесная! Возвеличенные, искусственно поднятые на недосягаемый пьедестал Высшая Гармония и Мудрый Порядок не только опирались на всеми уважаемую, никем не подвергавшуюся сомнениям идею небесного мандата, но и, отталкиваясь от этой идеи, заново формировали во многом утраченный менталитет подданных властителя Поднебесной. Этот менталитет б^1л оживлен идеалами золотого века в их наглядной и конкретной форме. Тем самым формировался мощный социопсихологический заряд, направленный против децентрализации с ее раздробленностью и усобицами, своекорыстием и аморальностью рвущихся к власти честолюбцев.
Историографы — ши, создавшие идеал золотого века, были не столько чиновниками вана, выполнявшими его социальный заказ, сколько идеологами сильного государства, без которого нет политической стабильности, господствует беспорядок и дисгармония в отношениях между людьми.
Следует добавить, что помимо теоретической разработки идеи гармонии, порядка и единства Поднебесной с ориентацией на мудрость древних чжоуские ваны делали все, что было в их силах, дабы противостоять децентрализации или нелегитимному сплочению страны под властью гегемонов-ба Чжоуским ванам, среди которых в период Чуньцю, насколько можно судить, не было выдающихся личностей, нелегко было отстаивать свой суверенитет и высший сакральный статус сына Неба. Но они изо всех сил старались сохранить свое исключительное положение и по меньшей мере частично в этом преуспели Они не позволили первым двум всесильным гегемонам-ба сместить их. Они все время подчеркивали исключительность своих прерогатив и строго соблюдавшегося корпуса ритуально-церемониальных норм, в конечном счете высоко ценившихся аристократией царств, стремившейся их усвоить и бесспорно признававшей превосходство вана в этой сфере
Таким образом, и теоретические разработки на высшем уровне идеологических конструкций, и практические шаги в сфере ритуала и церемониала, во многом выполнявшей в чжоуском Китае функции отсутствовавшей в стране развитой религиозной
72
системы, решительно противостояли центробежным тенденциям чжоуского общества. Это противостояние, опиравшееся на теорию небесного мандата и на добавленные к ней усилиями чжоуских историографов идеалы золотого века великих древних мудрецов, постоянно рождало мощный импульс упорядочения Поднебесной, подчинения своеволия чжухоу единой высшей нормативной традиции и возглавляемой сыном Неба административной иерархии. Такого рода постоянное идейное давление сверху было союзником слабого вана в его борьбе с могущественными вассалами. Но в еще большей степени оно было импульсом в пользу централизации как таковой — вне зависимости от того, кем и когда она будет завершена.
Это последнее обстоятельство стоит подчеркнуть особо. Дело в том, что внутри царств и княжеств в Чуньцю происходил аналогичный всеобщему восточночжоускому процесс внутренней дезинтеграции и ослабления центральной власти. Могущественные вассалы из числа наследственных владельцев уделов и глав крепких кланов цзун-цзу активно противостояли своим сюзеренам-чжухоу, что становилось особенно очевидным в тех государствах и тогда, где и когда правители по тем или иным причинам оказывались ослабленными, как то б^хло в царстве Лу. Поэтому интеграционный импульс был обращен не столько против чжухоу (хотя он противостоял прежде всего их самовластию) сколько вообще против децентрализации и дезинтеграции, свойственных структуре древнекитайского общества периода Чуньцю. Этот импульс и сыграл свою решающую роль в судьбах чжоуского Китая.
Глава Ш
ВОСТОЧНОЕ ЧЖОУ: ПЕРИОД ЧЖАНЬГО
1. ОТ ЧУНЬЦЮ К ЧЖАНЬГО: УСИЛЕНИЕ ЦЕНТРОСТРЕМИТЕЛЬНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ
Если начало Восточного Чжоу и первая половина периода Чуньцю, т.е. основная часть VIII и VII вв. до н.э., прошли под знаком становления феодальной структуры, то во второй половине Чуньцю, начиная примерно с конца VII в. до н.э., чжоус-кий феодализм вступил в полосу стагнации и трансформации. Этот процесс прослеживается по нескольким основным направлениям, создавшим вкупе мощный центростремительный импульс, противостоять которому центробежные силы были уже не в состоянии. Процесс стагнации и трансформации в общих чертах сводился к созданию предпосылок для возникновения мощной централизованной имперской бюрократической структуры.
Как о том уже говорилось, первотолчок к преобразованиям был дан в одной из наиболее значимых для любого общества сфер — в сфере духовной культуры, и прежде всего идеологии, ритуально-этической традиции, игравшей в чжоуском Китае роль официальной религии. Социальные идеалы, воспетые в главах второго слоя «Шуцзина», равно как и строго сформулированные нормы ритуального церемониала, несли в себе мощный заряд общечжоуского культурного единства. И хотя такого рода заряд не всегда является решающей силой, что доказывает пример Индии, где единый религиозно-культурный фундамент никогда не мешал сосуществованию многих государств и языковых общностей, как первотолчок он мог сыграть, и в условиях чжоуского Китая, действительно, сыграл свою важную роль, быть может, далеко не сразу всеми осознанную. Можно добавить к сказанному, что (в отличие от древнеиндийской) древнекитайская идеология не была отстранена от реальной жизни, напротив, именно ею прежде всего и главным образом занималась, что, безусловно, способствовало усилению значимости идейного импульса.
Параллельно с идейно-ментальной шла, а в некоторых отношениях была и более значимой социально-политическая трансформация. За век-полтора праятели-чжухоу убедились в том, что создание могущественных уделов-кланов и укрепление позиций наследственной клановой знати (цинов и дафу) ведут к ослаблению их собственной власти, не говоря уже об уменьшении доходов.
74
Результатом этого было прекращение создания новых уделов-кланов и стремление сократить количество уже имеющихся. И если вначале в некоторых царствах, таких, как Цзинь, б^гла сделана попытка заменить близкородственные уделы-кланы неродственными правителю, то позже выяснилось, что такая замена мало что изменяет: традиции брали свое вне зависимости от степени родственной близости удельн^хх кланов к дому правителя. Логично, что в стремлении укрепить свою слабеющую власть правители в большинстве царств взяли курс на уничтожение уделов-кланов, а вместе с ними и наследственной знати как таковой. Взамен они все чаще и охотней использовали выходцев из низшей прослойки чжоуской аристократии, т.е. чиновников и воинов из слоя ши. В отличие от цинов и дафу ши во второй половине периода Чуньцю к наследственной знати отношения не имели, на аристократические привилегии и кормления претендовать не могли. Единственное, чего они могли достичь, — это назначения на чиновную должность, которая хорошо оплачивалась, вначале чаще всего тоже кормлениями, но на условиях беспрекословного повиновения административному начальству. Кормления для чи-новников-ши стали условными служебными пожалованиями: служишь — пользуешься пожалованным. Иными словами, чиновнй-ки-ши начали полностью зависеть от формировавшейся администрации, аппарата власти государства.
Таким образом, процесс дефеодализации социально-политической структуры чжоуского Китая периода Чуньцю проявлялся в том, что уменьшалось число могущественных уделов-кланов внутри царств. В одних случаях это происходило за счет распада некоторых из царств, в первую очередь могущественного Цзинь, которое в V в. до н.э. разделили между собой три сам^хх влиятельных в нем удела-клана, Хань, Чжао и Вэй2 (это иное Вэй, отличное от древнего удела и обозначавшееся другим иероглифом), каждый из которых стал затем одним из семи сильнейших в период Чжаньго. В других царствах процесс ослабления влиятельных уделов-кланов шел преимущественно за счет деградации клановой структуры как таковой. Могущественные кланы в уделах-вотчинах исчезали, различные их линии активно враждовали друг с другом, а внутри уделов появлялись обычные подданные. Среди этих подданных увеличивалось количество горожан, гожэнъ, вмешательство котор^хх в государственные дела все учащалось и за лояльность которых все чаще приходилось бороться враждующим линиям.
Стоит заметить, что это вмешательство чаще всего было в пользу сильных в их борьбе за централизацию власти. И князья-чжухоу, и правители усиливавшихся благодаря междоусобным войнам сильных уделов (подчас равных средним царствам и княжествам)
75
стояли за укрепление власти правящих верхов и комплектовали свои административные аппараты уже не за счет близких родственников из числа цинов и дафу, как то бывало прежде, но, как упоминалось, чиновниками-шм, чьи родственные связи не имели значения и не принимались во внимание, кто служил за жалованье там, где его взяли на службу, нередко в чужом царстве. Что же касается цинов и дафу, то их количество и тем более могущество быстро сходили на нет. Часть их была уничтожена в продолжавшихся войнах, особенно в междоусобных битвах, остальные постепенно превращались в тех же чиновников с условными служебными владениями. В конце Чуньцю дафу было уже сравнительно невысокой должностью, которая могла сопровождаться лишь жалованьем, подчас достаточно скудным, как это было, например, в случае с Конфуцием.
Социально-политическая трансформация шла бок о бок с административно-политической. Суть ее была в том, что взамен аннексированных уделов или княжеств все чаще создавались уезды — сяни, во главе которых вначале оставляли прежних правителей, но в новом статусе: это был уже не всевластный аристократ-вотчинник, но управляющий уездом высокопоставленный чиновник. Позже во главе сяней обычно ставили простых чинов-ников-иш, получавших за свою службу жалованье из казны (право на служебное кормление постепенно отмирало, сохраняясь лишь для высших немногочисленных сановников из тех же ши). Превращение удельно-вотчинной клановой структуры в административно-территориальную с чиновниками-ми во главе уездов сыграло очень важную роль в процессе дефеодализации чжоуского Китая. Изменился характер городов, которые быстро превращались в торгово-ремесленные центры, переставая быть ставкой знатного аристократа. Описываемый процесс был также тесно связан с важными социально-экономическими изменениями, которые тоже внесли свой весомый вклад в трансформацию чжоуско-го общества.
Социально-экономические перемены в Чуньцю шли медленно, особенно в VIII—VII вв. до н.э. И далеко не случайно в песнях канона «Шицзин» почти не встречаются упоминания о деньгах, торговле, ремесленниках, горожанах. Процесс приватизации в чжоуском Китае начался сравнительно поздно и стал заметным не ранее VI в. до н.э. Именно этим временем датируются сообщения о реформах, проводившихся в разных царствах и сводившихся к изменению характера и форм налогообложения, что свидетельствовало об упадке прежней семейно-клановой общины и появлении вместо нее новой по формам ведения хозяйства деревенской общины, разделенной на хозяйственно-самостоятельные мелкие
76
воры-домохозяйства. Источники, касающиеся этого времени, все чаще упоминают об определенном количестве общинных деревенек и, жалуемых в кормление тому или иному должностному лицу, причем иногда упоминается и о количестве дворов как объекте пожалования.
Приватизация, коснувшаяся прежде всего бывших уделов-кланов с их замкнутыми хозяйствами, привела к появлению групп населения, частично или полностью работающих на рынок. Процесс возникновения рынков в городах, становившихся центрами приватизированной экономики, шел медленно, как и развитие торговли, появление и распространение денег, вначале существовавших в нескольких разных формах в различных царствах. Сколько-нибудь заметным он стал лишь в период Чжаньго (V—III вв. до н.э.), когда в чжоуском Китае появилось уже много городов с работавшими на рынок ремесленниками и торговцами, причем значительная часть деревенских жителей тоже оказалась вовлеченной в рыночное хозяйство. Именно в период Чжаньго в Китае, судя по многочисленным данным источников и сетованиям в них от имени ревнителей традиций, появились богатые простолюдины, а рядом с ними — безземельные арендаторы и батраки-наемники. Наемный труд, долговая кабала, богатство одних и бедность других вне зависимости от причастности их к власти и знати — естественное следствие процесса приватизации, развития рынка и товарно-денежных связей.
Меньше всего сферой рыночных отношений была затронута общинная деревня. Консерватизм земледельцев хорошо известен, причем этот здоровый консерватизм проявлялся в чжоуском Китае, как и на всем Востоке, в том, что община с крайней неохотой давала санкцию на отчуждение земли кем-либо из ее членов. Применительно к Чжаньго сообщений о такого рода сделках вообще нет, и косвенно это означает, что общинные земли, как правило, не продавались и в сферу рыночных связей не включались. Это не значит, однако, что община не изменялась. Напротив, в эпоху перехода от Чуньцю к Чжаньго (VI—IV вв. до н.э.) такого рода изменения были весьма заметными. Количество земледельцев возрастало быстрыми темпами. Появление в Китае железа и начало широкого применения изделий из него способствовали возделыванию залежных и целинных земель, до того почти не осваивавшихся жившими в районе речных долин чжо-усцами. Началась практика массового перемещения избыточного или недовольного своей жизнью земледельческого населения на новые места, о чем упоминается в «Шицзине».
Результатом освоения новых территорий был своего рода демографический взрыв, т.е. резкое увеличение количества населения в
77
период Чжаньго. Это хорошо видно хотя бы на примере изменения характера войн, о которых столь часто и подробно говорится в источниках. Если в Чуньцю войны велись по преимуществу аристократами на колесницах (с некоторым количеством обслуживавшей колесницы пехоты) и в них принимали участие тысячи, редко десятки тысяч воинов, то в Чжаньго войны представляли иную картину. Ушли в прошлое боевые колесницы вместе с их хозяевами-аристократами. Основой боевых действий стала пехота, состоявшая из рекрутов (один двор в деревне поставлял рекрута, несколько других экипировали его и обеспечивали всем необходимым). Число участников сражений достигало уже многих десятков, а порой и сотен тысяч, да и численность каждого из семи крупных царств Чжаньго измерялась миллионами жителей. С ГУ в. до н.э. северное царство Чжао переняло у соседей-кочевников их форму одежды (штаны для воинов) и по их примеру стали использовать лошадей для езды верхом, применяя необходимые для этого седла, стремена и т.п. Начиная с этого времени наряду с пехотой в войнах стали участвовать и конники, хотя этот вид воинов в Китае всегда оставался малочисленным и воспринимался как своего рода гвардия.
Демографические перемены оказали сильное воздействие на развитие рыночных отношений и всех новых приватизированных форм ведения хозяйства. В этой связи стоит заметить, что процесс приватизации и развития рынка вызывал в обществе преимущественно негативную реакцию. И это было результатом не столько ностальгии по добрым старым временам (хотя такого рода фактор играл свою роль), сколько опасений, связанных с усилением власти отдельных частных лиц, обладающих богатствами и потому определенным могуществом. Следовало как-то ограничить это могущество, что стало едва ли не первоочередной задачей правителей чжоуского Китая после того, как могущество родовой аристократии было окончательно сломлено и власти правителей и их чиновников ничто не угрожало.
Процесс существенной трансформации всей структуры древнекитайского общества, наметившийся и проявившийся уже в VI—IV вв. до н.э., на рубеже Чуньцю и Чжаньго, поставил перед чжоускими верхами немало новых и весьма сложных проблем. Это был своего рода вызов эпохи, на который следовало дать адекватный ответ, ибо без этого общество не могло дальше существовать. Но каким должен был быть этот ответ? Что следовало сделать, на чем должен был быть поставлен акцент, какие необходимо было приложить усилия, чтобы в новых и достаточно резко изменившихся обстоятельствах чжоуский Китай не просто выжил, но и сделал бы решающий шаг для достижения всегда желанных гармонии и порядка?
78
Здесь важно заметить, что в царствах чжоуского Китая периода Чуньцю идеал гармонии и порядка рассматривался и оценивался по-разному. Существовали по меньшей мере две модели, различавшиеся между собой целями и средствами достижения желаемого идеала. Первую из них можно было бы назвать моделью Чжоу-Лу, вторую — Ци-Цзинь. В чем сущность каждой из них и в чем различия между ними?
Дом Чжоу, или домен вана, был тем сакральным центром, величие которого уже в Чуньцю оставалось в прошлом. Отсюда ностальгия по далекому прошлому, стремление твердо держаться традиций старины, ибо только они давали легитимное право вану на власть и этическое превосходство знающего ритуалы и нормы чжоуского дома над чжухоу и тем более над претендующими на высший авторитет выскочками-^а. Именно в Чжоу, как о том уже шла речь, и велась работа над главами второго слоя «Шуцзина» со всей их идеологией, с отстаивавшими легитимность дома Чжоу идеалами времен Яо, Шуня и Юя. Впрочем, как это ни парадоксально, о доме Чжоу в Чуньцю мало что известно, а редкие материалы об этом в хронике «Чуньцю» и комментариях к ней, включая Го юй, позволяют судить лишь о том, что ван старался всеми силами сохранить свой высокий и защищенный признанной всеми легитимностью статус. Лишь косвенные данные позволяют судить о том, что в столице вана был, видимо, солидный архив (по преданию, в нем работал в свое время и полулегендарный мудрец Лао-цзы), что там жили придворные историографы и что в задачу работников историописания и архива могли входить, в частности, разработки основ чжоуской официальной идеологии.
Больше известно о Лу — и потому, что это б^хл удел великого Чжоу-гуна, и потому, что это была родина Конфуция. О луских архивах в источниках есть лестные отзывы со ссылкой на высокопоставленных приезжих гостей, в частности из Цзинь. Луские историографы писали хронику «Чуньцю». Правители Лу как потомки Чжоу-гуна имели официально признанные привилегии в сфере ритуала, что отражено, в частности, в гимнах Шицзина — в них есть только шанские, чжоуские и луские ритуальные гимны, больше никаких. Естественно, что правители Лу столь же тщательно, как и дом вана, хранили традиции старины, столь многое для них значившие. Их родство с домом вана и общие интересы в определенной степени сближали между собой эти два государства, что и легло в основу чжоу-луской модели идеалов. Существенно заметить, что еще до Конфуция, с именем которого связана детальная разработка, углубление и придание нового звучания этой модели, она уже в основных своих параметрах возникла и
79
существовала. Более того, можно сказать, что не Конфуций возвысил лускую модель, обеспечив ей в конечном счете признание и бессмертие, а чжоу-луская модель породила Конфуция, сделала его таким, каким он был.
Сказанное означает, что чжоу-луская модель идеалов сводилась к тщательному уважению традиций старины, воспеванию мудрости древних, подчеркиванию чжоуской легитимности, уважению наследственной аристократии с ее кланами и этическими принципами, воспеванию патерналистской формулы государственности (государство — семья; правитель — отец родной), эволюции в сторону гармонии на этической основе, культу древности, уважению к заповедям старины. Это была своего рода про-токонфуцианская модель организации общества и государства, модель с некоторыми явными элементами социально-политической утопии, особенно если иметь в виду неприглядную политическую реальность и в доме вана, и тем более в раздиравшемся всесильными сановниками на части княжестве Лу.
Вторая модель, ци-цзиньская, во многом противоположна чжоу-луской. Это была установка на реалии, на власть силы, в частности гегемонов-ба, установка на реформы, в том числе весьма радикальные, порывающие с традициями. Реформы бывали и в Чжоу (вспомним Сюань-вана), и в Лу, но там на передний план явственно выдвигались иные идейные установки и связанные с ними политические и экономические конструкций. В Ци же с его реформатором Гуань Чжуном и в Цзинь, где после Вэнь-гуна реформы стали едва ли не нормой, именно реформирование всего отжившего лежало в основе усиления обоих царств. Позже, в IV в. до н.э., аналогичным путем было реформировано при Шан Яне царство Цинь, нечто похожее испытало в то время и южное царство Чу. Серьезные реформы приписываются старшему современнику Конфуция в царстве Чжэн, Цзы Чаню.
В известном смысле можно сказать, что рано или поздно, но большинство чжоуских государств периодов Чуньцю и Чжаньго встало именно на этот путь, где идеалом было создание сильного государства и жесткого порядка, а методы достижения цели виделись в использовании всеобщеобязательных нормативных регламентов властей. Циско-цзиньско-циньская модель делала решительную ставку не на клановые связи и знать, но на выходцев из неродственных, а то и чужеземных по происхождению кланов. Она была динамичнее и оказалась более подготовленной для соперничества с частным собственником — врагом государства и власти центра. Эту модель можно считать протолегистс-кой, хотя далеко не все те, кто осуществлял реформы, особенно в Цзинь, были легистами, т.е. сторонниками нормативного
80
регламента, закона в его восточном выражении (что начальство велело, то и есть закон).
Разница между первой и второй моделями очевидна, однако в чем-то они были и сходными: обе выступали за порядок и силу централизованного государства, для чего необходимо было ослабить как (вначале) всесильную владетельную знать, так и (позже) богатевшего частного собственника; обе исходили из того, что народ является основой государства, а власть заботится о благе народном; обе не были чужды реформам, равно как и традициям. Словом, обе были «азиатскими», если иметь в виду концепцию Маркса о Востоке.
Однако при всем том одна модель явно делала акцент на патерналистские методы, а другая — на силовые. Противостоя друг другу, они были как бы двумя сторонами единого в основных своих параметрах процесса складывания сильного государства. И именно в ходе противоборства и общего движения к единой в конечном счете цели в итоге и бьшо создано государство такого рода. Но прежде, чем это было достигнуто, прошло несколько веков, наполненных борьбой мнений и столкновением идей. В этом смысле период Чжаньго следует считать, пожалуй, наиболее насыщенным интеллектуальным соперничеством временем во всей многовековой истории Китая.
О причинах этого уже упоминалось: в чжоуском Китае конца периода Чуньцю остро ощущался объективный вызов эпохи, на который следовало дать адекватный ответ. Готового, и тем более хорошо разработанного и аргументированного ответа ни у кого не было. Зато было множество достаточно упрощенных ответов, каждый из которых имел свои плюсы и минусы. Необходимо было время, чтобы в ходе идейного соперничества эти плюсы и минусы выявили себя, а основные концепции смогли бы укрепить свои позиции, завоевать сторонников, сумели бы воспользоваться удачно сложившимися обстоятельствами для успеха.
В итоге в середине I тыс. до н.э. чжоуский Китай оказался как бы на распутье. Протекало множество сложных параллельных процессов, которые вызывали серьезные следствия, в корне меняли привычную структуру, рождали новые социальные слои и вели к отмиранию старых. Ко всему этому следовало приспособиться, и сделать это нужно было осознанно, приняв во внимание всю сложность ситуации и всю противоречивость разнородных интересов. Добиться этого можно было лишь в условиях мощного взлета интеллектуальной рефлексии. Такого рода взлет был подготовлен предыдущими веками, завершившимися в этом плане разработкой идеала гармоничного и упорядоченного государства и общества, приписываемого древним мудрецам. Вот от этого-то идеала,
81
как от уже достигнутой интеллектуальной высоты, и шли в своих напряженных поисках древнекитайские мыслители, первым и наиболее выдающимся среди которых был Конфуций.
2. КОНФУЦИЙ И ЕГО УЧЕНИЕ
Конфуций, Кун-цзы (551-479 гг. до н.э.), выходец из луских ши, первым дал свой вариант ответа на вызов быстро и резко трансформировавшегося чжоуского общества. Опираясь на чжо-уско-лускую модель идеологических ценностей и приоритет этической нормы в поиске путей к стабильности, упорядоченной гармонии, он предложил в качестве основы успешной эволюции великий принцип постоянного самоусовершенствования — человека, общества, государства. Методика и механизм совершенствования — тщательное соблюдение этических и ритуально-церемониальных нормативов с ориентацией на общепризнанную мудрость древних. «Передаю, а не создаю; верю в древность и люблю ее», — сказано об этом в трактате Луньюй («Беседы и суждения»), написанном после смерти философа и содержащем его афоризмы и поучения, обращенные преимущественно к ученикам. И хотя в своем учении Конфуций (первым в Китае ставший общепризнанным Учите
лем и именно в ходе бесед с учениками вырабатывавший основы своей концепции) был подлинным творцом нового, все созданное им так основательно и умело опиралось на традиции, что принципиальный тезис Луньюя не слишком расходился с истинным положением вещей.
Конфуций — это прежде всего великая этическая традиция, восходящая к Чжоу-гуну, это высшая мудрость Яо, Шуня и Юя, запечатленная в идеалах
Шуцзина. Однако вместе с тем
Конфуций (Кун-цзы)
Конфуций — это и конфуци-
анство, т.е. доктрина, приспособившая древние мудрые этические нормы к требованиям изменившейся эпохи, причем сделавшая это в общих чертах столь удачно, что именно она, конфуцианская традиция, в первую очередь
82
определила менталитет, образ жизни и систему ценностей в Китае что весомо ощущается и в этой стране, и в ряде других стран современного Дальнего Востока вплоть до наших дней.
Итак, чему учил Конфуций своих учеников? Мало уделяя внимания идее небесного мандата (и явно в ней разочаровавшись), он выдвинул на передний план альтернативную категорию Дао, т е. великого истинного пути, мудрого и справедливого порядка, нормы правильного поведения. «Кто утром познал дао, может вечером умереть без сожаления»; «Если в Поднебесной царит дао — старайтесь быть на виду, если нет — скройтесь», — сказано в трактате Луньюй. Оставив за Небом лишь последнее слово и как бы отодвинув его так, чтобы оно не слишком мешало людским делам, Конфуций именно дао превратил в этический критерий всего должного. Соответственно было изменено и содержание раннечжоуского понятия дэ, которое, перестав быть исключительной прерогативой знати и лишившись своего сакрального, тесно связанного с Небом содержания, стало своего рода конкретным проявлением дао, символом существования этической нормы, добродетельного поведения благородного человека.
Само понятие благородного человека (цзюнъ-цзы, сын правителя, т.е. благородный) тоже было коренным образом изменено и стало употребляться Конфуцием уже не применительно к уходившей в прошлое аристократии, но по отношению к истинно порядочному, высокодобродетельному и потому именно благородному в современном звучании этого понятия человеку. Цзюнь-цзы у Конфуция стал неким недосягаемым идеалом высших добродетелей, комплексом всего наидостойнейшего. Это рыцарь морали и добра, почти святой бессеребреник, думающий и заботящийся не о себе, но о других. Он преисполнен чувства гуманности (жэнь), долга и справедливости (и), высоко ценит ритуальный церемониал (ли), готов постоянно учиться и само-.усовершенствоваться, дабы освоить все необходимые знания и применить их для пользы общества и создания государства высшей гармонии и разумного порядка.
Социальный порядок Учителю виделся в том, что в государстве, как и в семье, старшие должны управлять, младшие подчиняться и быть объектом заботы. Патернализм чжоуской клановой структуры у Конфуция плавно трансформировался в высокозначимый культ мудрых старших, древних предков, как в каждой семье, так и в стране в целом. «Пусть государь будет госуДарем, подданный подданным, отец отцом, а сын сыном». Иными словами, все должны знать свое место и выполнять положенные им функции — только тогда и будет достигнут высший порядок, а вместе с ним и желанная социальная гармония. Отличие
83
государства от семьи вполне осознавалось, но это было отличие вторичного характера, количественное, а не качественное. Заключалось же оно в том, что один государь в отличие от отца в семье не в состоянии управлять, ему нужны хорошие помощники. Хорошими же помощниками могут стать лишь те, кто ориентируется на идеал цзюнь-цзы и готов всего себя отдать великому делу преобразования Поднебесной, погрязшей в сварах и интригах, во лжи и обмане, в себялюбии и разврате.
Едва ли не важнейшей целью жизни Конфуция было воспитание из своих учеников хороших чиновников, которых можно было бы использовать в управлении и которые при этом руководствовались бы изложенными им принципами жизни, поведения и мироустройства. В трактате Луньюй много говорится о том, как нужно управлять, в чем состоит искусство администрации. Следует всегда поступать правильно и справедливо, не спешить с решением сложных вопросов, уметь слушать других, вникать в суть дела, не разбрасываться на мелочи, избегать рискованных шагов и опасных поступков.
Следует всегда привлекать к управлению мудрых и способных, которые в свою очередь обязаны нелицеприятно возражать правителю в случае необходимости, никогда не обманывать его успокаивающими заверениями. То есть «управлять — значит поступать правильно». Мудрость умелой администрации Конфуций видел в том, чтобы хорошо знать людей, их чаяния и чувства, чтобы идти впереди управляемых и трудиться ради них, вести их за собой, воздействуя на них как своим умом, знаниями, добродетелями, так и конкретным личным примером. При этом во взаимоотношениях между людьми должны господствовать ритуально-церемониальные нормы ли, ибо «без ли почтительность превращается в утомительность, осторожность становится трусостью, смелость смутой, а прямота грубостью». Ли —важнейший организующий, дисциплинирующий и соединяющий людей импульс. Овладевший им сможет управлять Поднебесной «так же легко, как показать ладонь».
Ученики Конфуция прилежно внимали его поучениям и очень старались стать такими, какими хотел их видеть Учитель. Однако это не всегда удавалось. По подсчетам Г.Крила, из 22 упомянутых в Луньюе учеников девять обрели должности и еще один от нее отказался. Из этого следует, что современные Конфуцию правители высоко ценили школу Учителя и его принципы воспитания. Но сам Конфуций был суров и бескомпромиссен. «Цю не мой ученик! Бейте в барабан и выступайте против него!» — воскликнул он, когда узнал, что назначенный администратором Цю повысил налоги. Отступление от принципов было для Конфуция
84
недопустимым. Неудивительно, что правители не решались приглашать самого Учителя занять какую-либо заметную должность.
Позднейшая апологетическая традиция утверждает, что Конфуций имел должность министра правопорядка в Лу, но это яв-ая легенда. В Луньюе об этом ничего не сказано, да и самого Лу как государства в зрелые годы Конфуция (когда теоретически он только и мог быть приглашен на должность министра) фактически не существовало, а царством управляли три цина из родственных друг другу кланов. В трактате сохранились лишь рассуждения Конфуция на тему о том, как хорошо было бы получить должность и что бы он сделал, произойди это. «Если бы меня взяли на службу, в течение 12 месяцев я навел бы порядок, а за три года все было бы в совершенстве…» Рассуждая на тему о том, что Небо даровало ему его весомое дэ и вложило в него высочайший комплекс цивилизованности — вэнъ, которым после Вэнь-вана никто в Китае в столь полной мере (как это следовало понимать) еще не обладал, Конфуций, видимо, в глубине души надеялся на то, что Небо подаст знак и призовет его к управлению Поднебесной. В 50 лет, постигнув волю Неба, он, по его словам, десятилетия после этого «внимал чутким ухом» этой Небесной воле, но безрезультатно.
Впрочем, неудачи в исполнении тайных надежд внешне мало сказывались на деятельности мудреца. С энергией подлинного первооткрывателя он продолжал разрабатывать свои идеи и передавать их ученикам. Развивая идею социальной гармонии, Учитель выдвинул идеал сяо — сыновней почтительности, лежавшей в основе возвеличенного им культа предков. «Служить родителям по правилам-ли при их жизни, похоронить их по правилам-ли после смерти и приносить им жертвы по правилам-лм» — вот концентрированное изложение сяо. И речь' здесь идет не только о том, что дети должны заботиться о здоровье родителей, об их питании и удобствах, быть почтительными к ним и строго соблюдать все законы траура по многочисленным родственникам, что уже само по себе было очень важным и составляло едва ли не основу семейных правил-ли. Намного важнее то, что культ предков и сяо в принципе упорядочивал социальные отношения людей на низовом массовом уровне.
Люди не равны и не могут быть равны по их месту в семье и обществе, но каждый должен хорошо знать свое место — при всем том, что оно не неизменно, а, напротив, меняется со временем и в зависимости от обстоятельств. И человек сам в определенной степени хозяин своей судьбы, ибо от него, его способностей, добродетели, стараний и иных качеств многое зависит в его жизни, несмотря на то, что многие привилегии уже при рождении
85
получают высокопоставленные, власть имущие и богатые. Иными словами, знатность знатностью, богатство богатством, но и от самой личности зависит немало. «Люди по природе в общем-то одинаковы; образ жизни — вот то, что их различает», — сказано в Луньюе. «Только самые умные и самые глупые не могут изменяться», считал Учитель. Все остальные должны стремиться к самоусовершенствованию.
Конфуций верил в едва ли не безграничные возможности человека и, отталкиваясь от этой веры, всегда стремился способствовать распространению знаний. Принципы его эпистемологии (теории познания) в основном сводились к тезису: «Когда знаешь, считай, что знаешь; коли не знаешь, считай, что не знаешь, — это и есть знание». Главное же — любить знание и стремиться к познанию всегда, всю жизнь. При этом важно уметь должным образом использовать полученные знания: «Учение без размышлений напрасно, а размышления без учения опасны». Обе части этого афоризма весьма емки: чтобы думать и что-то создавать, нужно многое знать; нельзя пытаться что-то сделать, не зная всего, что для этого нужно знать. Вообще же «учиться и время от времени реализовывать узнанное — разве это не приятно?» — с этого афоризма, как известно, начинается текст Лу-ньюя, что придает ему особое звучание.
Итак, человек для Конфуция — это человек, оснащенный знаниями и стремящийся к знаниям, знание же для него — прежде всего знание нравственное, т.е. познание законов жизни. Когда Конфуция спросили о смерти, он резонно заметил: «Мы не знаем, что такое жизнь, — что уж нам говорить о смерти?!» Учитель был великим моралистом и гуманистом, он учил восхищаться знанием, преклоняться перед всем изящным и радующим глаз (эстетика в его учении да и вообще в древнекитайской мысли воплощалась в термине юэ, букв. «музыка»), строго соблюдать завещанные древностью нормы, ритуалы и церемониал, ценить гармонию и чувство меры и восхищаться теми, кто преуспел во всем этом. Но вместе с тем Конфуций, как и вся шанско-чжоус-кая традиция до него, почти не интересовался проблемами онтологии и натурфилософии, мистики и сверхъестественного, магии и суеверий. Все, что не имело самого непосредственного отношения к тому, как людям следует жить и какими они должны быть в этой жизни, как создать гармоничное общество и совершенное государство, было вне сферы его интересов и внимания. Небо, его воля и связанная с ней судьба людей — вот, пожалуй, единственный элемент мистики, который можно встретить в афоризмах Конфуция. Но и рассуждения на эту тему отнюдь не насыщены мистикой и верой в сверхъестественное. Даже наоборот,
86
ни весьма трезвы и рационалистичны — просто небесная воля в них играет роль надчеловеческой разумной силы, вектор которой пять-таки вполне познаваем: веди себя как должно, и Небо всегда
будет с тобой.
Благо Человека — наивысшая цель и ценность в доктрине Конфуция. Но его гуманизм столь же мало походил на европейский гуманизм времен Возрождения, как требование философа всегда принимать во внимание, что любят и хотят люди, ни в коей мере не имело ничего общего с демократическими настроениями. Совсем напротив, люди в конфуцианстве — не субъект, но прежде всего объект — объект заботы, управления, наставления. Правда, не все. Цзюнь-цзы — это именно субъекты («цзюнь-цзы не инструмент»), тогда как противопоставленные им сяо-жэнь (простые люди, те, кто привычно заботится не о высокой морали, но о повседневной низменной выгоде) и есть объекты, ими и следует управлять, о них и должны заботиться в их же собственных интересах высокоморальные цзюнь-цзы.
Патернализм Конфуция вполне вписывался в традицию и устраивал власть имущих, как и устраивал их возвеличенный им культ предков и мудрецов. Но максимализм Учителя, его нравственная бескомпромиссность были неприемлемы, и отнюдь не случайно, что самого Конфуция на службу не брали, отделываясь от него ничего не обязывающими должностями вроде дафу при не имеющем реальной власти правителе. Разумеется, такого рода синекура к концу жизни мудреца в чжоуском Китае уже мало что значила. Как известно, в этом скромном статусе он и умер, горько оплакиваемый учениками, которые во время длительного траура жили рядом с его могилой. Именно усилиями учеников и был составлен трактат «Луньюй», зафиксировавший для потомков мудрость Учителя.
Афоризмы, конкретные поучения и вся тональность доктрины Конфуция позволяют заключить, что по своей натуре Великий Учитель был не столько консерватором-традиционалистом (хотя именно этот аспект в своем поведении он всячески акцентировал), сколько новатором едва ли не радикального плана. Целью его было преобразовать погрязшую в пороках Поднебесную, причем идеалом для него было не неясное в своих очертаниях будущее, но очень понятное всем и искусно возвеличенное в специально разработанных социально-политических и этико-административных конструкциях Светлое Прошлое древних мудрецов. Впрочем, нарочитый акцент на традицию не должен затмить то бесспорное обстоятельство, что на деле традиция использовалась в конфуцианстве лишь в качестве формы.
87
Конечно, форме в этой доктрине придавалось огромное значение, она была элементом ритуала и церемониала, основой социального порядка. Но при всем том главным б^хло все же то, чем и как заполнена форма. А заполнялась она не только патернализмом и культом древних, но и высокой нравственной позицией ответственных за судьбы людей и призванных руководить ими старших, бескомпромиссностью в моральных принципах, ясно декларированным стремлением к знаниям и постоянному самоусовершенствованию, т.е. к реализации заложенных в каждом лучших его потенций. И именно поэтому Конфуцию удалось, пусть не при жизни, добиться того, что редко выпадало на долю мудрецов-реформаторов: по начертанным им эскизам, по его модели в конечном счете стал развиваться Китай. Его ответ на вызов эпохи оказался наиболее удачным среди других.
Разумеется, все это выявилось далеко не сразу. Ни ученики Конфуция, ни ученики его учеников и последующие поколения конфуцианцев вначале многого не добились. Им внимали, к ним шли учиться, их идеи находили слушателей и почитателей, но правители в конце Чуньцю и тем более в Чжаньго в них не были заинтересованы. Чжоу-луская модель эволюции Поднебесной, стократ усиленная и улучшенная, как бы обретшая крылья в конфуцианстве, не была принята даже там, где она появилась, т.е. в домене Чжоу или в Лу, переживавших нелегкий период упадка власти легитимных правителей. Там же, где легитимные правители из числа могущественных чжухоу обретали силу, в чести б^гли реформаторы и законодатели другого типа — из числа тех, кто не делал нарочитого акцента на древние традиции и высокую нравственность, но, напротив, считал своим долгом прямо и откровенно, преимущественно силовыми методами, проводить необходимые реформы и никак не увязывать их с тем, что будто бы было в древности. Впрочем, эта по-своему весьма логичная практическая политика правителей не меняла того факта, что на поставленный трансформирующимся Китаем вызов следовало искать ответы. Один из них, конфуцианский, стал широко известен уже в V в. до н.э. За ним, в конце V и в IV в. до н.э., последовали другие, каждый из которых заслуживает внимания и оценки.
3. МОИСТЫ, ЛЕГИСТЫ, ДАОСЫ И ИНЫЕ ШКОЛЫ ДРЕВНЕКИТАЙСКОЙ МЫСЛИ
Мо-цзы (Мо Ди, 479-400 гг. до н.э.), как и Конфуций, стремился к участию в большой политике. Однако в этом деле он не преуспел и не сделал карьеры, а его реформистские и радикальные
88
идеи остались достоянием группы его учеников и последователей, чье влияние в чжоуском Китае было намного меньше, чем конфуцианцев. Для этого были веские причины. Будучи учеником одного из учеников Конфуция и разделяя немало его идей (борьба за благо народа как конечная цель; стремление к укреплению государства; привлечение к администрации мудрых и способных), Мо-цзы вместе с тем предложил ряд оригинальных постулатов, шедших вразрез с традициями и потому наталкивавшихся на естественное неприятие со стороны тех, к кому он апеллировал.
Исходя из того, что причиной зла в Поднебесной является взаимная ненависть и эгоистическое стремление к собственному благу за счет ближнего, Мо-цзы выдвинул идею универсализма, почти коммунистического по характеру идеала всеобщего единения искусственно усредненных людей. Он выступил против воспетых конфуцианцами тесных семейно-клановых связей и расточительных траурных обрядов по близким родственникам, да и вообще против деления на своих и чужих, тем более на богатых и бедных. Простая пища, скромная одежда, небольшое удобное жилище для всех и каждого, все заботятся друг о друге и все любят всех — вот идеал, к кбторому следует стремиться. Разумеется, в обществе всеобщей любви и всеобщего равенства должны быть и одинаковые потребности. И Мо-цзы решительно выступил не только против длительного по характеру траура в семьях (не лучше ли позаботиться о живых, предоставив мертвым скромную могилу?), но и против разного рода удовольствий и развлечений, против всего, что радует глаз и относится к миру изящного. Изысканные блюда, красивая музыка суть излишества, которые не могут быть предоставлены всем и которые поэтому не нужны.
Пафос стремления Мо к обществу одинаковых и умеренных в своих потребностях людей был рожден неравенством, богатством безродных выскочек, нищетой обедневших народных масс и иными кричащими противоречиями в социальной структуре, которые становились в Китае на рубеже Чуньцю и Чжаньго все более очевидными. Он был весьма далек от ставшего уже едва ли не общепризнанным идеала золотого века далекого прошлого. Но его представления об идеальном социуме сталкивались с необходимостью оптимальной организации реально существующего социума, с проблемами создания разумной администрации справедливо устроенного государства. Развивая эту сторону вопроса, Мо создал своего рода договорную — почти в духе Руссо – теоРию государства. Некогда был хаос, когда все выступали против всех. Но потом мудрые поняли, что так жить нельзя, и создали систему многоступенчатой администрации во главе с сыном Неба.
89
Вакансии в иерархической административной лестнице должны были заполняться за счет выдвижения старательных младших, готовых солидаризироваться со старшими и вовремя сообщать о тех, кто замечен в каких-либо отклонениях от нормы.
Универсализм вкупе с унификацией в теории Мо привели к концепции концентрации власти в руках старших при атомизи-рованном народе, соотносящем свое поведение с волей начальства под угрозой доносов и страха наказаний. Так мечта о социальной справедливости при последовательной ее разработке легко превратилась в модель иерархической структуры в рамках гигантского супергосударства, щедро вознаграждающего послушных (куда исчезли постулаты о всеобщем равенстве?) и сурово наказывающего непокорных. Утопическим в утопии Mо б^1л не столько сам идеал, сколько его несоответствия реалиям. Утилитарный расчет на то; что взаимная выгода (все любят всех, что ж здесь плохого!?) подвигнет людей принять его схему жизни натолкнулся на упорное неприятие тех, кто привык больше любить своих, чем чужих, и тем более тех, кто любил хорошо поесть или развлечься, если это оказывалось возможным.
Сам Мо, насколько известно из источников, был человеком щедрым и готовым помочь людям. Едва ли он сознавал, чем чревата его утопия, — он хотел, чтобы всем было хорошо. Но при этом обязательны власть и порядок, для поддержания которых нужны и доносы, и наказания. Мо, видимо, казалось, что он все хорошо придумал. Известно, что его последователи, разделяя идеалы своего вождя, выступали против войн, на которые столь щедр был период Чжаньго, и в военных столкновениях нередко шли помогать слабым — ведь именно войны в первую очередь мешают осуществлению идеала «все любят всех». Немалые надежды Мо, как и Конфуций, возлагал на Небо, полагая, что оно вступится за его идеи и даст знак, не одобряющий поведения противников универсальной гармонии. Он критиковал Конфуция за фатализм, считая, что человек может взять судьбу в свои руки и решительно изменить ее в духе его, Мо, идеалов. Но отвергаемая им судьба была в конечном счете неблагосклонна именно к нему. Объясняя неудачи Мо в реализации его замыслов, великий древнекитайский даос Чжуан-цзы заметил: «Мо-цзы не любил людей». И это, пожалуй, самая точная, хотя по отношению к самому Мо и не слишком справедливая оценка.
Моизм как социально-политическая доктрина в принципе соответствовал циско-цзиньской реформаторской модели развития государства и царства. Однако это был лишь первый, своего рода пробный шаг теоретического осмысления модели, предназначенной сломать явно устаревавшую традицию. Кроме того, Мо-цзы не ставил своей целью вовсе отвергнуть традицию — он стремился раз-
90
вивать ее в интересах централизованной администрации, сильного государства. Но, как бы то ни было, сделав свой шаг именно в этом направлении, он, независимо от его личных устремлений и человеческих качеств, начал движение в сторону поиска концепции эффективного государства при пассивных подданных. Как о том писал известный историк древнекитайской мысли В.А. Рубин, это было движение от конфуцианской традиции к легизму.
Легизм как доктрина был сформулирован сравнительно поздно не ранее IV в. до н.э., хотя отсчет первым протолегистским реформам можно начинать с Гуань Чжуна. В отличие от половинчатого моизма с его утопическими иллюзиями легизм был четко сориентирован на силу и принуждение государственной власти. Строго говоря, сам термин (фа-цзя, школа «законников») в данном случае не слишком точен, ибо легисты не были сторонниками закона в европейском смысле этого слова. Идея фа на практике и тем более в теории древнекитайского легизма означала строгий регламент, административный приказ, веление начальства. Любое указание сверху должно выполняться неукоснительно, под угрозой строгих наказаний за неповиновение. Подобно конфуцианцам и монетам, легисты дали свой вариант организации общества и управления государством, причем этот вариант оказался наиболее жестким по отношению к бесправным и запуганным подданным, что опять-таки отвечало радикально-реформаторской модели развития Китая. Легисты как теоретики были в этом плане продолжателями того пути, который начал Мо. Но в отличие от него они не были утопистами. Напротив, их идеи явствен-" но соответствовали административной практике, все более очевидно складывавшейся в ведущих царствах чжоуского Китая. Далеко не случайно теоретиками легизма были не свободные от службы мыслители, лишь мечтавшие о реализации своих идей (какими были и Конфуций, и Мо-цзы), но всесильные министры, имевшие реальную возможность проверить свои теории на практике и практикой апробировать их пригодность.
Специалисты обычно выделяют две основные ветви легизма. Первая из них связана с именем министра царства Хань Шэнь Бу-хая (400—337 гг. до н.э.). Незадолго до его прихода к управлению царство Хань поглотило Чжэн, чьи правители в прошлом на протяжении ряда поколений исполняли функции министров (цин-ши) домена Чжоу. Таким образом, чжэнские и цзиньские политические традиций были той основой, на которой Шэнь Бу-хай создавал свою теорию управления. Смысл этой теории сводился к тому, что главное — искусство умелого руководства. Глава государства должен опираться на многих способных помощников, не доверяясь абсолютно ни одному из них. В доктрине Шэня правитель —
91
это ось, вокруг которой вращается множество спиц. Он должен быть точным в выражении своих мыслей и неторопливым в делах, обязан контролировать свои чувства и продумывать действия. При этом мудрость его не должна бросаться в глаза, а управлять следует по принципу недеяния (увэй), т.е. все видеть, слышать, знать, уметь, предвидеть и организовывать так, чтобы не было необходимости в повседневном вмешательстве сверху, чтобы все шло само собой, как следует, в крайнем случае — при минимальной корректировке со стороны правителя. Шэнь обращал особое внимание на то, чтобы все вещи и явления соответствовали своим наименованиям, дабы не было путаницы. Все должностные лица обязаны соответствовать своим должностям и справляться с обязанностями, причем основными условиями при подборе администраторов должны быть объективные показатели, и конечно же, повседневный и строгий контроль.
Теория, можно даже сказать искусство управления по Шэнь Бу-хаю содержит и много других полезных рекомендаций. Так, правитель должен внешне выглядеть любезным, но внутренне постоянно быть готовым к решительным действиям; ему не следует хвастать, ни умом, ни властью, но при случае он должен умело пользоваться тем и другим. Хороший правитель обычно дает подчиненным свободу действий, но в то же время жестко их контролирует. Ему никогда не следует отдавать невыполнимых приказов, и он обязан тщательно продумывать все сказанное. Что касается технологии подбора кадров, то она должна базироваться на конкурсной основе — и в этом плане Шэнь Бу-хая можно считать если не отцом, то своего рода прародителем будущей экзаменационной системы.
Легизм в варианте Шэня — это более высокая теория, нежели повседневная практика, скорей, идеальная конструкция, чем реальная модель поведения. Но тем не менее нетрудно заметить, что в теории управления по Шэню собрана мудрость поколений администраторов, и вся эта мудрость сконцентрирована на том, чтобы дать в руки умелому правителю механизм надежной централизации власти. Существенно заметить, что теория Шэня не касается проблем взаимоотношения управителей с управляемыми, с народом. Пафос ее в отлаживании системы администрации наверху, во взаимоотношениях между различными отрядами и звеньями администрации как таковой.
Вторая ветвь легизма — это теория Шан Яна. Выходец из царства Вэй, Шан Ян стал всесильным министром в царстве Цинь, и именно для этого в недавнем прошлом полуварварского государства он создал свою доктрину. Суть ее, как она предстает со страниц приписываемого Шан Яну трактата «Шан-цзюнь шу»
92
(«Книга правителя области Шан»), сводится к тому, что главное в администрации — это жесткая власть, основанная на системе доносов и суровых наказаний даже за незначительные проступки. Человек по природе порочен и глуп. Глупость его для начальства даже удобна — легче управлять. Но пороки надлежит сурово и решительно искоренять, для чего в стране необходимо безраздельное господство закона, т.е. приказа. Приказы должны быть ясными и понятными всем, а выполнение их — задача администрации. Блюсти законы обязаны все, независимо от должности. Если закон и, следовательно, порядок обеспечены, государство становится сильным. Народ же нужно искусственно ослабить — в этом таится сила государства.
Единый для всех закон и тесно связанная с ним система наказаний — основа социально-политической, да и всякой иной регуляции общества. Что же касается народа, то его поведение следует унифицировать и регулировать с помощью строгих и мелочных регламентов. Усилия людей необходимо сконцентрировать на главном, что дает силу государству, — на земледелии и военном деле. Земледелие обеспечивает изобилие, военные занятия — силу. Конечно, существуют и иные слои общества, которые в большинстве своем вредят и мешают усилению государства. Это и говоруны-ученые, и частники-стяжатели, и торговцы, ориентированные на рынок. Все, чем они занимаются, — второстепенные, чтобы не сказать вредные занятия, которые должны строго ограничиваться и жестко контролироваться. Для этого необходимы действенный контроль и хорошо налаженная система доносов и круговой поруки как среди простого народа, так и в рядах чиновничества.
Аппарат власти следует держать в строгости, нельзя позволять его членам злоупотреблять служебным положением и поддаваться коррупции. В аппарате не нужны ни слишком умные (от них много хлопот), ни чересчур способные; в нем должны преобладать средние и Законопослушные, дельные и преданные правителю служаки. Он должен быть свободным от групповых и частных интересов, унификация здесь особенно важна.
Как упоминалось, в своем трактате Шан Ян заимствовал и развил многие идеи Мо-цзы, будь то ставка на унификацию, доносы и наказания или явственное стремление превратить весь народ в усредненную массу, удобную для манипулирования сверху. И даже нарочитое ослабление подданных перед лицом всесильной машины власти тоже восходит к идеям Мо. Конечно, Шан Ян внес в свою доктрину и немало нового, создавая из нее нечто намного более жестокое и античеловечное по сравнению с тем, что было в моизме. И если Мо хотел сделать как лучше для людей, то Шан Ян,
93
будучи предельно циничным, откровенно презирал народ, считая его быдлом, для которого нужен прежде всего кнут. Зато многие конкретные проблемы, связанные с оптимальной организацией системы администрации, Шан Ян разработал очень детально, видя в этом основу мощи государства. Он создал иерархию рангов-ступеней административной лестницы с ощутимыми льготами для тех, кто поднялся достаточно высоко, а также стал награждать внеочередными рангами воинов, прославившихся в битвах, создав тем самым стимул для воинской доблести и успехов. Ему также принадлежит идея продавать богатым ранги за весьма высокую плату, ослабляя тем самым могущество частных собственников и укрепляя материальную базу казны.
Были и другие, менее известные варианты легизма. В целом же как течение мысли легизм оказался наиболее последовательным выражением интересов сторонников той модели развития древнекитайского государства и общества, которая отвечала духу радикальных реформ, отказа от отживших традиций и усиления государства за счет ослабления народа. «Слабый народ — сильное государство» — девиз Шан Яна, но им, пусть в разной степени, руководствовались и все остальные реформаторы-легисты, которых в период Чжаньго можно б^хло встретить почти во всех царствах, хотя и не везде они добивались одинаковых успехов.
Если моизм и легизм, при всем их несходстве с конфуцианством, были социально-политическими доктринами и в духе классической древнекитайской традиции стремились создать разумно организованное общество и эффективное централизованное государство, то некоторые другие течения мысли в Китае IV—III вв. до н.э. шли вразрез с этой традицией в принципе. Имеется в виду подчеркнутый уход в сторону от поисков оптимально структурированного социума, интерес к проблемам натурфилософии, мистики и метафизики, официально игнорировавшимися в шанско-чжоуской древности. Этот интерес проявлял себя по-разному. Простейшей его формой было издревле знакомое Китаю отшельничество мудрецов, несогласных с правящими верхами и их политикой, как то было на рубеже Шан Чжоу с Бо И и Шу Ци. Даже если упомянут^хх аскетов следует считать легендарными, а не реально существовавшими деятелями, связанные с их именами легенды способствовали укреплению в чжоуском Китае самой идеи ухода от активной жизни — идеи, которой отдал дань и Конфуций (если в государстве нет дао, — уходите). Другой, более резкой и эпатирующей общество формой неприятия господствующих доктрин альн^хх установок следует считать так называемый янчжуизм.
Ян Чжу, философия которого изложена в 7 гл. сравнительно позднего (эпоха Хань) трактата «Ле-цзы», тоже принадлежит к числу полулегендарных фигур. Однако реальное существование
94
прототипа этой личности доказывается упоминанием его имени в трактате «Мэн-цзы» (III в. до н.э.), где конфуцианец Мэн-цзы горько сетует на то, что идеи Мо и Яна заполонили Поднебесную. Ян Чжу известен тем, что первым в китайской мысли поставил проблему жизни и смерти: смерть всех уравнивает, ибо умирают и умные, и глупые, а коль скоро так, стоит ли заботиться о том, чтобы быть мудрым и добродетельным, гуманным и справедливым? Живи, пока тебе дано жить, и получай все удовольствия, которые может дать жизнь, — после смерти ничего не будет, кроме гниющего тела… Гедонизм Яна был по-своему последователен. Ради блага Поднебесной не стоит слишком стараться, как и ради славы, долголетия и даже богатства. Живи спокойно и естественно, легко относись и к жизни, и к смерти. Асоци-альность Яна, несколько перекликавшаяся с уходом от жизни отшельников, была тем не менее существенно иной, ибо в отличие от аскетов он охотно паразитировал на обществе, питаясь его соками, стремясь получить от этого удовольствие, но не прилагая усилий для умножения его позитивных потенций и накоплений. Экстравагантный социальный экстремизм Яна, однако, был, как и суровый аскетизм отшельников, одной из протодаос-ских идейных доктрин.
Даосизм, т.е. учение о Дао в духе метафизики, натурфилософии и откровенной мистики, — сложный комплекс идей. Он появился сравнительно поздно, на рубеже IV—III вв. до н.э., если даже не в III в. до н.э., но в процессе его генезиса сыграли свою роль как древние народные суеверия с оттесненными на интеллектуальную периферию мифологическими конструкциями или аскетическо-экстремистские поиски истины вне цивилизации, вне общества, хотя порой и за его счет, так и некоторые идеи, происхождение которых неясно. Это в первую очередь фундаментальные конструкции типа инь—ян (женское и мужское начала) и у-син (пять первоэлементов). Не углубляясь слишком в аргументацию, заметим, что концепция инь—ян близка к древнеиран-ской зороастрийской с ее дуализмом Добра и Зла, Света и Тьмы, а пять первоэлементов (земля, вода, огонь, металл, дерево) вписываются в древнеиранскую формулу Авесты (земля, вода, огонь, металл, растения, скот). Кроме того, знакомство с трактовкой даосами древнекитайских категорий дао и дэ позволяет предположить, что интерпретация этих понятий шла под воздействием ведической традиции Индии. Это становится очевидным, если проанализировать с такого рода позиций самый известный даосский трактат «Дао-дэ цзин». Этот трактат является жемчужиной Древнекитайской мысли, а его авторство приписывается легендарному мудрецу Лао-цзы, якобы жившему в VI в. до н.э. и бывшему старшим современником Конфуция.
95
Большинство специалистов согласны в том, что Лао-цзы фигура легендарная. Но тем не менее именно он считается автором трактата (других претендентов на авторство нет), хотя доподлинно известно, что «Дяо-дэ цзин»
написан не в предполагаемые годы жизни Лао-цзы, а много позже, в середине III в. до н.э. Емкие афоризмы трактата впечатляют, ибо захватывают глубины мироздания. Дао — все и ничто, всюду и нигде, все пронизывает собой, но не ощущаемо органами чувств. Это, если угодно, китайский аналог Великого Брахмана древнеиндийских вед и упанишад. Дао Абсолют имеет свою эманацию в конкретных предметах феноменального мира. Эта эмана
Лао-цзы
ция — дэ, весьма Напоминающая в трактате древнеиндийский Атман, проявление Великого
Брахмана — Абсолюта. Если вспомнить, что до появления трактата дао и дэ применялись в совершенно ином смысле, то трудно избавиться от впечатления, что эти термины были просто использованы авторами нового сочинения для перевода на китайскую иероглифику чуждых древнекитайской додаосской мысли идей, пришедших в Китай извне, из индо-иранской религиозно-культурной традиции.
Метафизика даосов близка к ведической по многим пунктам. К уже сказанному можно добавить идею о первочастицах ци, коими пронизано все в феноменальном мире: жизнь — комплекс ци, распад его — смерть. Тончайшие ци, цзин-ци, — наиболее деликатное духовное начало в жизни, что опять-таки напоминает древнеиндийские идеи о жизни как комплексе дхарм, распадающемся после смерти и воссоздающемся в новом сочетании после кармического перерождения. Трудно сказать, как именно, когда и каким образом могли проникнуть в позднечжоуский Китай такого рода основополагающие метафизические идеи, составившие фундамент китайского даосизма. Но о случайном сходстве здесь говорить трудно — слишком сложна та метафизика, которая вырабатывалась в древнеиндийской мысли не менее тысячелетия до того, как отголоски ее появились в китайском даосизме, вообще в Китае, где метафизических спекуляций ранее практически не
96
существовало, где проблемами натурфилософии и мистики мыслители в отличие от древнеиндийских не интересовались.
Другой древнекитайский даосский трактат, «Чжуан-цзы», тоже составленный в III в. до н.э., заметно отличен от первого. Он наполнен не столько глубокими рассуждениями на метафизические темы, сколько интересными притчами, анекдотами, парадоксами, короткими эссе, написанными хорошим литературным языком. В то же время по характеру философской мысли это сочинение соответствует основным идеям «Дао-дэ цзина», почти не отступая от их канонического звучания. Собственно, именно Чжуан-цзы следовало бы считать основоположником древнекитайского даосизма. Он и только он один настаивал на том, что автором «Дао-дэ цзина» следует считать некоего никому не известного Лао-цзы; который в притчах его трактата представлен реальной исторической личностью, — он будто бы даже поучает самого Конфуция, с усердием неофита старательно внимающего этим поучениям4 , как бы признавая несостоятельность собственной доктрины. Метафизика «Чжуан-цзы» насыщена представлениями о первозданном Хаосе, о первичных He-Сущем и Сущем (Едином), которые породили все вещи феноменального мира, о Логосе-Слове как мистическом преломлении конфуцианско-шэньбухаевской идеи «выпрямления имен», наконец, о впечатляющем долголетии познавших смысл жизни и смерти мудрецов. Стоит заметить, что именно после появления трактата «Чжуан-цзы» принадлежавший известным авторам даосский трактат «Дао-дэ цзин» многие стали именовать просто «Лао-цзы».
Но главным в древнекитайском даосизме как принципиально новом течении философской мысли следует считать то, что он стал гимном нонконформизму в менталитете древних китайцев, до того практически незнакомом с глубинами метафизических конструкций, с натурфилософскими построениями и мистическими рассуждениями о первозданном, о возникновении жизни, о сущности смерти, о внефеноменальном мире Великого Дао и т.п. Такого рода новые идеи, вкупе с представлениями об инь—ян в их философской трактовке (до того эти термины воспринимались как светлая и темная стороны горы) и тем более о первоэлементах у-син (пятиричные структуры были известны в Китае задолго до появления там идеи у-син, но опять-таки не были объектом сознательного и специального философского осмысления), тоже следует считать одним из ответов на вызов эпохи. Даосский ответ, обогащенный заимствованными и хорошо усвоенными, основательно переработанными мощной китайской традицией идеями, был призывом к резкому расширению того познавательного эпистемологического инструментария,
4 – 5247
97
посредством которого можно и нужно было теперь осмысливать все усложнявшуюся интеллектуальную действительность поздне-чжоуского Китая.
4. ПОЛИТИЧЕСКАЯ БОРЬБА И ПОИСКИ ПУТЕЙ К ОБЪЕДИНЕНИЮ КИТАЯ
Расцвет древнекитайской мысли, пришедшийся на VI—IV вв. до н.э., происходил на фоне быстрой трансформации не только структуры чжоуского Китая в период Чуньцю, но и политической ситуации в стране. Идея единства Поднебесной на основе гармонии и порядка все активнее разделялась большинством выдающихся умов периода Чжаньго и постепенно пробивала себе дорогу в реальной жизни. Уменьшалось число соперничавших друг с другом правителей. Все большей властью внутри своего государства пользовался каждый из них. На передний план в период Чжаньго выдвинулись считанные политические соперники: царства Цинь, Чу, Ци. Чуть меньшими возможностями располагали Чжао, Вэй и Хань, возникшие на базе распавшегося в V в. до н.э. могущественного Цзинь, а также северное царство Янь. Временами, подобно метеорам, блистали южные У и Юэ. Окончательно приходили в упадок и постепенно поглощались крупными соседями прежде влиятельные государства, такие как Чжэн или Сун. Заметно уменьшившиеся в размерах домен Чжоу и царство Лу со своими привилегиями оставались полунезависимыми лишь на правах небольших анклавов. В целом же политическая борьба в период Чжаньго шла между Цинь, Чу и Ци, в качестве союзников которых использовались бывшие цзиньские земли (Чжао, Вэй, Хань) и северное Янь. Поэтому специалисты часто говорят о «семи сильнейших» в Чжаньго.
В недавнем прошлом полуварварское царство Цинь быстрыми темпами наверстывало упущенное, сохраняя в то же время свое преимущество — сильную власть правителя. В 384 г. до н.э. здесь было официально запрещено принесение в жертву людей для сопровождения умершего правителя — обычай, давно уже осужденный в государствах Чжунго. Строились и обносились стенами и рвами новые города. Велись активные и успешные войны с соседями, прежде с могущественным царством Цзинь, а затем с тремя его преемниками. Для защиты от Цинь вэйцы выстроили даже земляную насыпь, своего рода стену. И тем не менее еще и в IV в. до н.э. Цинь продолжало рассматриваться в Чжунго как полуварварское государство, близкое по статусу к племенным образованиям ди или и.
Ситуация заметно изменилась в годы правления Сяо-гуна /361—338). Вспомнив и возвеличив времена Му-гуна (659—621), впервые заявившего о могуществе Цинь и расширившего его владения, Сяо-гун объявил своего рода конкурс на лучший план усиления мощи страны. На этот призыв отозвался вэйский ши Ян, который в 359 г.. до н.э. прибыл в Цинь и предложил провести реформы, суть которых сводилась к поощрению земледельческих усилий внутри царства и к активной подготовке к войнам. Назначенный министром, Вэй Ян (Шан Ян) в качестве главного метода осуществления реформ выдвинул систему жестких обязательных регламентов, малейшее неподчинение которым влекло за собой суровые наказания, как экономические (семьям, не пожелавшим делиться и каждой семейной парой в отдельности возделывать свое поле, предстояло выплачивать увеличенный налог), так и административно-уголовные. Именно эта методика послужила причиной того, что реформаторы типа Шан Яна стали именоваться легистами, т.е. сторонниками неукоснительного соблюдения закона, распоряжения властей.
За два тура реформ, осуществленных с небольшим интервалом в 50-х гг. IV в. до н.э., Шан Ян сумел существенно ослабить семейные связи, сделав в принудительном порядке малую нук-леарную семью самостоятельной хозяйственной ячейкой и связав группы (пятерки и десятки) таких заново созданных семейных дворов круговой порукой с обязательством слежки друг за другом и доноса по начальству в случае необходимости. Обширные пустующие земли царства стали, кроме того, заселяться приглашенными в Цинь на выгодных условиях колонистами. Лиц, не занятых в земледелии и не включенных в воинские подразделения, подвергали преследованиям и облагали высокими налогами и повинностями. Шан Ян ввел в стране систему административных рангов, высшие из которых даровались лишь за особые заслуги. Только обладание достаточно высоким рангом давало право на замещение государственной должности и получение соответствующих ей благ. Как правило, ранги давали имеющим воинские заслуги, что поощряло рвение тех, кто стремился к военной службе. Что же касается торговцев и ремесленников, то наиболее богатые из них могли, как упоминалось, за очень высокую цену купить ранг, что ослабляло их экономический потенциал и соответственно усиливало позиции казны.
Всех недовольных реформами либо превращали в рабов, либо ссылали в отдаленные районы, где все та же всевидящая и всемогущая административная система, созданная усилиями Шан Яна, вынуждала их подчиниться. Страна была разделена на уезды, управлявшиеся назначенными из центра чиновниками. Бюрократия, тоже
99
жестко связанная круговой порукой, была надежным и послушным орудием централизованной администрации. Многочисленность строгих предписаний и мелочная регламентация вели к тому, что люди боялись выйти за рамки дозволенного и молчаливо подчинялись власти. Ослабленный таким образом народ стал фундаментом силы государства Цинь. Никто не смел ослушаться указов: даже когда наследник престола попытался было сделать это, его наказали, отрезав нос его воспитателю, что было неслыханным оскорблением для будущего правителя царства.
Реформы Шан Яна достаточно быстро дали заметный эффект. И хотя сам реформатор после смерти Сяо-гуна был четвертован оскорбленным им наследником, престиж Цинь в чжоуском Китае сильно вырос. Армии его одерживали одну победу за другой, расширяя территорию царства за счет завоеваний. Сын Неба признал успехи Цинь, даровав в 343 г. до н.э. Сяо-гуну титул гегемона и прислав в 334 г. до н.э. его наследнику жертвенное мясо. Что касается этого наследника, то он в 324 г. до н.э. (правда, вслед за некоторыми другими правителями — Ци, Вэй, Хань) объявил себя ваном и тем самым сравнялся в титулатуре со своим чжоус-ким сюзереном. А его ближайший помощник Чжан И начал активно сколачивать коалицию царств, направленную против могущественного южного Чу.
Полуварварское южное Чу, правители которого раньше всех (с середины VII в. до н.э.) демонстративно начали именовать себя ванами, стало активно вмешиваться в дела Чжунго еще в период Чуньцю, причем эти контакты вели к энергичному проникновению на юг многих элементов развивающихся на севере традиций. Их живыми носителями, в частности, нередко становились знатные беженцы, которых охотно и с почетом принимали в Чу. В период Чжаньго царство Чу стало одним из сильнейших и энергично расширяло свои владения за счет аннексии более слабых соседей, в том числе и в землях Чжунго (царство Чэнь и др.). Укреплению Чу во многом способствовали реформы легиста У Ци (У-цзы), ослабившие позиции аристократии и усилившие власть правителя. Именно Чу поддержало инициативу Су Циня, направленную на сколачивание блока царств по вертикали — против Цинь. Эта идея была призвана нейтрализовать замысел Цинь и его министра Чжан И создать блок царств по горизонтали — против южного Чу.
Стоит также особо отметить, что южное Чу во многом отличалось от царств, расположенных к северу от него (Чжунго), где в период Чжаньго достаточно широко распространилось конфуцианство, ставшее основой древнекитайского менталитета. Отличия сводились не столько к относительной слабости конфуцианства на юге, сколько главным образом к тому, что именно здесь, в
100
Чу, были наиболее распространены даосские идеи, явственно противостоявшие северокитайским. Точных данных на этот счет очень мало, но многие косвенные свидетельства позволяют полагать, что именно южным путем, через Чу, видимо, и проникали в Китай те протодаосские настроения, истоки которых можно встретить в древней индо-иранской мысли. Впрочем, само полуварварское Чу в период Чжаньго было еще недостаточно развитым для того, чтобы синтезировать протодаосские идеи с традиционно китайскими. Это было сделано, скорее всего, в другом царстве, в Ци, ближайшем соседе Чу в приморских районах Восточного Китая.
Царство Ци было, как уже упоминалось, одним из наиболее развитых в чжоуском Китае, что наглядно проявилось еще во времена Хуань-гуна и Гуань Чжуна. Позже роль Ци стала менее значительной. Однако в период Чжаньго это царство опять стало одним из сильнейших и наиболее процветающих, а столица Ци, город Линьцзы, — едва ли не крупнейшим в стране. После того как в 386 г. до н.э. Тянь Хэ, всесильный сановник Ци из рода Чэнь, сыном Неба и другими чжухоу был признан легитимным правителем царства, Ци под властью новой династии Тянь не только резко активизировало свою политику, активно вмешиваясь в политические интриги и искусно лавируя между Цинь и Чу с умелым использованием при этом поддержки других царств Чжунго, но и стало привлекать к себе лучшие умы всего чжоуского Китая.
Именно в столице Ци, близ ворот Цзи, была создана во второй половине IV в. до н.э. своеобразная академия Цзися, куда приглашались все известные китайские мыслители, получавшие от правителей Ци звание дафу и соответствующее содержание. В числе таких ученых, как постоянно живших в Цзися, так и посещавших академию, были представители всех направлений чжоу-ской мысли. Но более всего Цзися было центром даосизма и близких к нему идейных течений, адепты которых появлялись здесь, видимо, преимущественно с юга, из Чу. Скорее всего, именно таким путем в академию прибыл такой известный ученый, как Цзоу Янь, одна из наиболее загадочных фигур философии периода Чжаньго. Именно ему приписывается философская разработка идей о пяти первоэлементах (у-син) и об инь—ян. Кроме того, Цзоу Янь первым в Китае стал настаивать на том, что чжоуский Китай (Поднебесная) — это лишь девятая часть одного из девяти континентов, т.е. небольшой регион мира. Оригинальные взгляды Цзоу Яня в аутентичных текстах не сохранились. Однако сам факт существования и разработки высказанных им идей позволяет предположить, что они, как упоминалось, были стимулированы внешними влияниями со стороны индо-иранского мира и что эти влияния проникали в Цзися через юг, долгим путем с запада на восток по обширным землям Чу.
101
Богатое Ци, аннексировав ряд соседних государств, включая Сун, стало в III в. до н.э. одним из сильнейших в чжоуском Китае и одно время даже соперничало с Цинь в борьбе за звание ди (император), от которого, впрочем, в то время (начало III в. до н.э.) оба царства благоразумно отказались. Ци, как известно, последним пало в 221 г. до н.э. в борьбе с Цинь за гегемонию в чжоу-ском Китае.
Что касается трех царств, возникших на развалинах огромного Цзинь, то все они тоже играли заметную роль в борьбе сильнейших в Чжаньго. С именем Улин-вана связано усиление северного Чжао в конце IV в. до н.э. и включение в состав войска конниц^:, с которой до тех пор китайцы не б^зли знаком^:. Вэйский Вэнь-хоу прославился своей мудростью на рубеже IV—III вв., хотя после его смерти этр не слишком способствовало укреплению Вэй, Южная часть Цзинь, Хань, присоединив царство Чжэн, укрепила свои позиции. Однако все три б^твшие части Цзинь, действуя об^хчно сообща, не могли стать достойн^тм соперником того же Цинь — чаще они использовались Ци, дабы сплотить государства Чжунго против полуварварского напористого царства.
Царство Янь стало процветающим и богат^1м лишь в iii в. до н.э., когда соотношение сил в чжоуском Китае в основном уже сложилось. Борьба с соседним на юге Ци не была в пользу Янь, как и не принесли большого успеха временные союзы и тем более конфликты с другими соседями, прежде всего из числа наследников Цзинь. В целом следует заметить, что из царств Чжун-го лишь Ци сохранило силу и влияние, тогда как остальные чаще терпели поражения, чем добивались успеха. Борьба в период Чжаньго, жестокая и кровопролитная, когда число убитых в сражениях и казненных пленных исчислялось десятками, а порой и сотнями тысяч (особенно прославились жестокостью войска Цинь), была в основном в пользу полуварварских еще вчера го-, сударств. Почему же?
Уже шла речь о том, что в конце Чуньцю в чжоуском Китае (как в рамках Чжунго, так и на периферии) возникли две различные модели развития. В период Чжаньго спецификой царств Чжунго оказалось сближение обеих моделей, т.е. в конечном счете смягчение жестких волевых операций реформаторов общеуважаемой традицией, стократ усиленной после ее разработки Конфуцием и его последователями. Эта начальная стадия д^ительно-го для всего чжоуского Китая процесса синтеза обеих моделей проявила себя в рамках царств Чжунго тем, что, воспетая конфуцианцами традиция, явственно довлела над умами, доминировала и в менталитете, и в соответствующих ему акциях. Это и была та цивилизованность в лучшем смысле этого слова, которая, прежде всего в глазах самих жителей Чжунго, всегда отличала их
102
не только от дальних варваров, но и от ближайших полуварварских соотечественников-соседей, прежде всего от Цинь и Чу.
Что же касается Цинь и Чу, то там легизм как жесткая политика силовых реформ был воспринят в его обнаженной, практически почти ничем не облагороженной форме. Это способствовало последовательности проведения и результативности реформ как таковых, особенно в постшанъяновском Цинь, а также явилось причиной той жесткости силовых методов, которые, будучи рождены и благословлены жестким легизмом, стали нормой во взаимоотношениях этих государств с их противниками. Существенно добавить, что высшие авторитеты в сфере древнекитайского военного дела Сунь-цзы и У-цзы (У Ци), уроженцы развитых царств Чжунго, лучше всего сумели применить свои способности вне Чжунго. Для Суня, согласно традиции, это была служба в царстве У, а для У Ци — в Чу (военные успехи У Ци в Вэй не принесли ему желанной власти и вынудили бежать в Чу).
Как бы то ни было, но мощь Цинь и Чу неуклонно рослa, причем этот рост был связан не только с военным могуществом, но и с внутренней трансформацией. Особенно очевидным это было для сильнейшего из них — Цинь. Первым из знаменитых древнекитайских мыслителей, кто вынужден был признать это и сделать соответствующие выводы, оказался Сюнь-цзы, виднейший
древнекитайский конфуцианец.
Сюнь-цзы (313—238 гг. до н.э.), как и его старший современник Мэн-цзы (372-287 гг. до н.э.), принадлежали к числу интеллектуальной элиты Чжаньго. Оба бывали в академии Цзися, но в разное время, едва ли встречаясь (Сюнь-цзы был слишком молод, когда маститый и всеми признан-' ный мудрец Мэн-цзы уже умер). Но судьба распорядилась так, что именно они оказались во главе двух наиболее влиятельных и притом весьма различных направлений конфуцианства. Мэн-цзы,
как и его великий предшествен-
ник Конфуций, был ортодоксом,
Мэн-цзы
чьи возвышенные идеалы не допускали компромиссов. Считая, что «изречения Ян Чжу и Мо Ди заполонили Поднебесную», Мэн-цзы видел свой долг в том, чтобы восстановить и приумножить престиж потускневшего было
103
на фоне новых доктрин конфуцианства. И он многое сделал для этого, приняв вызов вновь сформировавшихся идеологических концепций, будь 'то цинизм" Яна, экстремизм Мо или даосские идеи о наполняющих Вселенную микрочастицах ци.
Развивая идеи Конфуция, Мэн-цзы вновь подчеркнул, что общество состоит из трудяцихся низов и управляющих верхов, причем верхи существуют ради блага низов и всегда должны помнить об этом. Мэн-цзы воспел доброту натуры человека. По его мнению, люди становятся злыми от тяжелых условий бытия, и причины тому социальные. Он упрекал всех современных ему правителей в том, что они далеки от идеала, а в качестве идеала предложил упоминавшуюся уже систему цзин тянъ. Эту форму труда, владения землей и налогообложения Мэн-цЗы считал оптимальной. Он охотно делился своей мудростью с приглашавшими его правителями и брал за это щедрые дары, высоко свои знания. Но, подобно Конфуцию, реальной властью цзы не обладал.
Если Мэн-цзы стоял за чистоту конфуцианства и противопоставлял это учение всем новым, то Сюнь-цзы в отличие от него способствовал тому, чтобы учение Конфуция перестало быть только благородной нравственной нормой и стало бы чем-то большим для мятущейся в поисках гармонии и высшего порядка огромной страны. Сюнь-цзы считается реалистом. В молодости посетив царство Цинь (он б^хл родом из Чжао), наблюдательный философ был поражен тем эффектом, который дали реформы Шан Яна. На него произвели большое впечатление и процветание страны, и господствовавшиев Цинь порядок и дисциплина. Считая вопреки Мэн-цзы, что человек по натуре порочен и лишь правильное воспитание способно сделать его нравственным, Сюнь-цзы с сочувствием воспринял некоторые легистские идеи, способствовавшие «правильному воспитанию» в его понимании. Оставаясь, как и все конфуцианцы, горячим сторонником самоусовершенствования человека, он счел по меньшей мере некоторые методы из арсенала легизма заслуживающими внимания для реализации такого рода самоусовершенствования.
Будучи прагматиком и в отличие от Мэн-цзы стремясь придать такой же оттенок конфуцианству в целом, Сюнь-цзы не остановился перед тем, чтобы переинтерпретировать традиционный облик Конфуция, приписав ему казнь некого шао-чжэна Мао во времена, когда Конфуций будто бы был министром в Лу. Примечательно, что Мао был казнен не за какие-либо серьезные (уголовные) преступления, а лишь за то, что своими речами смущал народ. Иными словами, Сюнь-цзы пытался представить Конфуция не просто гонителем инакомыслящих, но кем-то вроде ми-нистра-легиста, борющегося за послушание, дисциплину, поряря-
104
док, точное выполнение предписаний начальства с жестоким наказанием за непослушание.
Нельзя сказать, что вся мудрость и деятельность Сюнь-цзы сводились лишь к этому. Он был глубоким и незаурядным мыслителем, немало внесшим в конфуцианство и в древнекитайскую мысль в целом. Однако стремление к рационалистическому синтезу классического (и явно утопического — особенно в представлении Сюнь-цзы) конфуцианства с добивающимся реальных успехов и в конечном счете по ряду позиций сходным с ним легизмом стало главным в его учении. Далеко не случайно оба знаменитых ученика Сюнь-цзы, философ Хань Фэй-цзы и министр Ли Сы, стали соответственно великими теоретиком и практиком именно легиз-ма, практически уже вовсе отбросив конфуцианский камуфляж.
Поворот в идеях, совершенный влиятельным конфуцианцем Сюнь-цзы, — очень важный шаг на пути великого синтеза идей, под знаком которого прошла почти вся вторая половина I тыс. до н.э. в Китае. Именно этот путь б^гл доминантой периода Чжаньго. И хотя Чу и Цинь отличались от большинства царств Чжунго в первую очередь тем, что в них меньшую роль играла конфуцианская традиция, именно они внесли свой весомый вклад в формирование древнекитайской позднечжоуской цивилизации. Вклад Чу проявился в форме обогащенного даосизмом менталитета с его интравертной погруженностью индивида в мировоззренческие проблемы (в чем-то близкие к классическим индийским), склонностью к мифопоэтической лирике (первый поэт, заявивший себя как авторская личность, Цюй Юань, был родом из Чу) и заметным стремлением сблизиться с высокой культурой конфуцианского Чжунго. Что же касается Цинь, то здесь возник собственный вариант синтеза конфуцианства и легизма, который был реализован при дворе известного богатого купца Люй Бувэя и обрел форму энциклопедии Люй-ши чуньцю.
Правда, в самом Цинь существовали, видимо, разные точки зрения на то, каким должно быть упомянутому синтезу и следует ли ему вообще быть в этом царстве. Ведь тот факт, что при дворе Люй Бувэя собирались (как то было и в циской академии Цзися, с которой Люй очевидно соперничал) десятки и сотни выдающихся умов Китая, мыслителей разных школ, авторов будущей энциклопедической сводки, сам по себе может рассматриваться лишь как тенденция, пусть даже назревшая и закономерная. Хорошо известно, однако, что этой тенденции противостояла другая, отстаивавшая классический легизм как систему администрации в ее наиболее жестком шанъяновском стиле.
Вообще проблемы администрации в рамках столь желанного царства высшей гармонии и образцового порядка становились в конце Чжаньго все более актуальными и жизненно важными.
105
Мыслители разных школ так или иначе затрагивали их в своих рассуждениях, однако наиболее полные и завершенные конструкции были предложены конфуцианцами и легистами, причем эти предложения гармонично вписывались в те модели с их основными целями и установками, о которых уже шла речь.
Чжоу-луская конфуцианская идеальная конструкция Поднебесной была впечатляюще отражена в капитальном трактате «Чжоули», написанном примерно в III в. до н.э. В этом умело составленном и тщательно систематизированном тексте оказалась в мельчайших деталях воплощена идеальная схема гигантской государственной машины, которая несколькими веками раньше лишь в общих чертах б^хла намечена в материалах «Шуцзина», повествовавших о золотом веке Яо, Шуня и Юя. В «Чжоули» дано описание гигантского централизованного административного аппарата, необходимого для управления империей. Аппарат состоит из шести министерств — Неба во главе с да-цзаем, Земли во главе с да-сыту, церемоний во главе с да-цзунбо, войны во главе с да-сыма, наказаний во главе с да-сыкоу и общественных работ (описание этого последнего в тексте отсутствует и замещено разделом «Као-гун цзи», в котором подробно рассказано о ремеслах и ремесленниках).
В каждой из глав, характеризующих то или иное министерство, подробнейшим образом, с учетом иерархического соподчинения и ранга, обрисована номенклатура ведомств и служб, скрупулезно описаны регламент и сферы деятельности каждого из чиновников всех Звеньев управления. В многочисленных пояснениях и комментариях содержится немало интереснейших подробностей о функциях и обязанностях чиновников аппарата администрации. Так, например, в министерстве Земли в их число входит забота о крестьянских наделах, о поддержании должных отношений между людьми, включая обеспечение вдов и сирот, стариков и неимущих. Здесь же упоминается о необходимости вести регистрацию земли и населения, определять нормативы повинностей, следить за состоянием дорог и гостиниц при них и даже заботиться о том, чтобы мужчины и женщины вовремя вступали в брак.
Чиновники этого министерства были обязаны руководить ремесленниками и торговцами, поддерживать порядок на рынках, следить за мерами, монетами, ценами и пошлинами, качеством товаров и перемещениями торговцев. Особая категория администраторов призвана была ведать лесами, водами, горами, озерами, парками, металлами и минералами, охотой и заготовкой рогов, клыков и перьев. Служителям амбаров следовало заботиться о семенах и страховом фонде зерна для убогих и нищих. Аналогичным образом выглядели в трактате и описания функций чиновников других министерств.
106
Феномен трактата Чжоули давно уже находится в центре внимания специалистов. Дело в том, что его текст составлен таким образом, будто все описанное в нем некогда реально существовало, т.е. являет собой ту структуру золотого река прошлого, которую нерадивым потомкам ныне следует вспомнить и восстановить ради их же блага. На" деле же «Чжоули» является идеальной схемой, в которую ее авторы вложили (кое в чем опираясь на действительно существовавшие в различных царствах или в аппарате управления времен Западного Чжоу нормы администрации, включая номенклатуру чиновников, а кое-что сочинив заново) свое представление о том, как должна выглядеть Поднебесная и как следует ею управлять. Трактат в этом смысле является тем самым ответом на вызов времени, который формулировался конфуцианцами на протяжении почти трех веков, от Конфуция до Сюнь-цзы. Суть этого ответа сводилась к тому, что централизованная империя должна быть единым цельным социально.-поли-тическим организмом, в котором все тщательно пригнано, ничто не опущено, а генеральной основой, своего рода костяком является стройная чиновничье-бюрократическая конструкция.
Составление трактата «Чжоули» означало не только то, что конфуцианский ответ на вызов эпохи был окончательно сформулирован, но также и то, что сторонники этой модели имеют достаточный интеллектуальный потенциал и поддержку в обществе для того, чтобы попытаться реализовать их проект. Однако слабооть и проекта, и его составителей и сторонников была в отсутствии серьезной политической основы. И домен Чжоу, и царство Лу и некоторые другие примыкавшие к ним государства, характеризовавшиеся сильными и влиятельными конфуцианскими традициями, не были в числе тех, на чьей стороне в конце Чжань-го б^1ла сила. А политическая и военная сила в ту пору оказалась на стороне тех крупных царств, где давно уже пользовалась предпочтением иная, легистская в своей основе, модель Поднебесной. Восходящая к циско-цзиньской модели реформ, она сильно трансформировалась после реформ Шан Яна в Цинь и в конце IV и тем более в III в. до н.э. практически уже стала именно циньс-кой легистской моделью чиновничье-бюрократического государства.
Этому способствовали и те серьезные стадиально-структурные изменения, которые с особой силой проявили себя в конце периода Чжаньго. Прежде всего, в позднечжоуском Китае на смену ранним государствам пришли государства вполне развитые. Специфическим отличием развитых государств от ранних, если следовать привычной схеме этапов политогенеза, является формирование таких важных институтов; как система принуждения, опирающаяся на жесткий регламент (закон), а также появление в качестве итога приватизации развитой системы рьшочно-частнособственнических
107
отношений. То и другое вполне проявило себя в царствах времен Чжаньго с их большими городами, развитыми ремеслом и торговлей, рыночными связями и в то же время с мощной силовой структурой, призванной контролировать и ограничивать потенции частных собственников и рынка.
Именно этот последний момент важно особо подчеркнуть, так как в нем отражаются принципиальные различия между классическим традиционным Востоком, в нашем случае представленным позднечжоуским Китаем, и античной Европой, первые полисы которой появились незадолго до начала периода Чжаньго. Если для европейского пути развития с появления эллинских полисов основой структуры стали рыночно-частнособственничес-кие отношения, на страже которых стояло само гражданское общество полисов, выработавшее необходимые для защиты граждан и собственников институты власти (демократия с ее сложными процедурами) и правовой защиты, то для восточного пути всегда была характерна структура командно-административно-распределительного типа. Разумеется, рынок, строго контролируемый властью, был необходим и для традиционного Востока с его развитыми государствами. Будучи не в состоянии обойтись без него (он играет роль кровеносной системы в развитом организме) и обогащаясь, стабилизируясь за его счет, командно-распределительная структура тем не менее всегда оставалась на Востоке господствующей.
Это проявлялось как в полном ее произволе по отношению к подданным (граждан традиционный Восток не знал, а подданные официально никогда не имели тех льгот, привилегий и гарантий для индивида-собственника, которые были основой структуры античного типа), так и в декларируемых ею принципах (государство превыше всего или, по Шан Яну, слабый народ — сильное государство), не говоря уже о сложившихся стереотипах поведения самого общества. Известно, например, что в истории Китая в нередкие для нее моменты децентрализации и деструкции частные собственники первыми гибли под ударами разъяренной толпы восставших обездоленных крестьян, которые видели своих врагов прежде всего в нерадивых чиновниках и богачах, виновных в кризисе. Известно и то, что спокойно чувствовали себя богатые собственники только под защитой сильного государства и в периоды стабильности и процветания. Из этого следует, что частные собственники на Востоке, в частности в Китае, не только были лишены прав и гарантий, но и сами были заинтересованы в существовании ограничивавшей их возможности и жестко их контролировавшей сильной власти.
Формирование именно такого рода взаимоотношений между частными собственниками и укреплявшей свои позиции центра-
108
лизованной властью как раз и приходится на период Чжаньго, в основном на вторую его половину. Этот процесс наиболее наглядно демонстрируется успехами царства Цинь в связи с реформами Шан Яна. Но так или иначе — он был характерным и для всех остальных царств, для всего позднечжоуского Китая. За два с небольшим века периода Чжаньго чжоубкий Китай изменился в этом смысле весьма существенно, кое в чем до неузнаваемости. Вспомним, что в начале его еще агонизировала удельная система, практически отсутствовал рынок, лишь зарождались частная собственность и товарно-денежные связи, трлько-только появилось железо, и с его широким распространением стали ощущаться преимущества железного века. Правда, уже сказал свое веское слово Конфуций, начались заметные перемены в менталитете общества. Но, как бы то ни было, именно за первые два века после Конфуция, в период Чжаньго, Китай сумел добиться очень многого.
Рухнула прежняя замкнутость. Конечно, войн в период Чжаньго было не меньше, чем в Чуньцю, но они не мешали экономическому развитию, расцвету городов с их ремеслами и торговлей, деньгами и рынками. Распространение достижений железного века, и в частности новых орудий труда, способствовало развитию ирригации и дало сильный толчок экономическому росту деревни. Явно запоздавший в чжоуском Китае процесс приватизации шел бурными темпами и не мог не коснуться крестьянства, связав его с городским рынком. Рос объем производства, быстро увеличивалось народонаселение, что способствовало ускоренному освоению пустовавших прежде территорий. Дал заметный результат давно уже протекавший, но резко убыстрившийся именно в Чжаньго процесс адаптации варварских и полуварварских государственных образований. Источники времен Чжаньго уже практически не упоминают о жунах и ди на собственно китайской территории, — жуны, ди, даже южные хуайские и были в большинстве своем китаизированы и стали интегральной частью Поднебесной.
Невиданного расцвета достигла в Чжаньго древнекитайская мысль со всеми ее «ста школами». Спецификой философских поисков стало явно выраженное стремление направить основные интеллектуальные усилия на то, чтобы выработать приемлемую для большинства формулу государства и общества гармонии и порядка. И если некоторые направления мысли уходили в сторону от целенаправленного поиска, как это имело место в случае с даосизмом, то такого рода исключения лишь подтверждали правило. Правило же сводилось к тому, что в период Чжаньго, как и до него, в центре внимания духовной культуры Китая были устремления к социальному и политическому совершенствованию. Устремления подобного рода опирались на жесткую норму,
109
ритуальную этику и формализованный церемониал, но не на религию, тем более не на развитую религиозную систему, которой в чжоуском Китае фактически не существовало.
Период Чжаньго был отмечен ярким расцветом и художественной культуры. Совершенствовались музыка и музыкальные инструменты, что было не только тесно связано с потребностями развивавшегося ритуального церемониала, но стимулировалось также и развитием гражданской поэзии и песенной лирики, вершиной которой следует считать элегии первого китайского поэта Цюй Юаня (до него поэзия была представлена лишь безымянными стихами, одами и гимнами «Шицзина»). Делали первые, но впечатляющие шаги живопись (рисунки на шелке и т.п.) и скульптура, развивалось искусство каллиграфии. Большие успехи б^хли достигнуты в городской и особенно дворцовой архитектуре. Именно в Чжаньго расцвело искусство книгописания и книгоделания — первые китайские книги являли собой связки длинных бамбуковых планок (на каждой планке — вертикальная строка или пара строк иероглифов), причем объемистая книга требовала для ее перемещения чуть ли не целую телегу.
Все эти крупные и в основе своей благотворные для Китая перемены и процессы протекали, однако, на фоне постоянных и жестоких войн. Эти войны теперь уже опирались на строгие правила военного искусства, детально разработанные выдающимися воинами-профессионалами и запечатленные в специальных трактатах, которые до наших дней высоко ценятся и тщательно изучаются в военных академиях. Лейтмотив этих трактатов, прежде всего «Сунь-цзы» и «У-цзы», сводится к тому, что война — это не преодоление противника грубой силой, но высокое искусство тактики, маневра, хитрости и обмана, базирующееся на хорошем знании состояния дел в лагере противника (здесь важную роль должны были играть шпионы), на учете психологии, морального духа армии и т.д. и т.п.
Разумеется, не всегда все эти тонкости использовались в перманентных и крупномасштабных войнах, которьк было в период Чжаньго, как уже говорилось, великое множество. Но они, как и все перемены, сказались на характере войн. Правда, из источников далеко не всегда ясно, насколько удачно был использован тактический маневр, но зато они наглядно показывают, сколь часто и как безжалостно расправлялись с побежденными, уничтожая их десятками, а то и сотнями тысяч (чего не было в войнах периода Чуньцю). Лидировало же в такого рода истребительных войнах царство Цинь.
Глава IV
СОЗДАНИЕ КИТАЙСКОЙ ИМПЕРИИ ДИНАСТИИ ЦИНЬ И ХАНЬ
1. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И КРАХ ИМПЕРИИ ЦИНЬ
Именно теперь, в конце длительной эпохи Чжоу, на заключительном этапе периода Чжаньго в Поднебесной (конкретные очертания которой к этому времени практически слились с Чжун-го, ибо принципиальная разница между цивилизованными срединными царствами и полуварварской периферией в основном исчезла) начали вырисовываться контуры единой империи. Эту империю, формирование фундамента которой заняло почти тысячу лет, нельзя назвать скороспелой. Напротив, основные ее механизмы и детали были тщательно продуманы и в своей совокупности почти идеально соответствовали как полуутопическим проектам поколений мудрецов-реформаторов, так и некоторым генеральным социологическим закономерностям политогенеза.
Речь идет в первую очередь о том, что, если вспомнить теории «азиатского» (государственного) способа производства, — перед нами на глазах складывающаяся гигантская машина хорошо продуманной бюрократической администрации в рамках все увеличивающейся за счет завоеваний империи. Опирающийся на принципы власти-собственности и централизованной редистрибуции аппарат бюрократической администрации этой империи уже готов был взять в свои руки все рычаги абсолютной власти. Но как этими рычагами распорядиться? И именно здесь столкнулись две параллельно совершенствовавшиеся модели древнекитайского общества.
Сразу стоит заметить, что многое в этих моделях было однотипным и достаточно адекватно отражало реалии позднечжоус-кого Китая. Для обеих была характерна концентрация власти в руках правящих верхов, используя привычные марксистские термины, — государства-класса, который твердо стоял надо всем остальным обществом, намереваясь управлять им в его же собственных (но прежде всего, конечно, в своих) интересах. Вопрос был лишь в том, как управлять. И в этом пункте словесные споры помочь не могли. Решить проблему могла только практика исторического процесса. Практика же вначале явно была на стороне силы, легистского кнута в рамках циньской модели.
111
Именно военные успехи Цинь положили начало превосходству этого царства над другими. Возрастание его военной мощи восходит к реформам Шан Яна, смысл и цель которых как раз и сводились к тому, чтобы за счет усиления жесткой административно-бюрократической власти и предоставления льгот земледельцам создать; условия для военно-политической экспансии. Результаты реформ (которые столь поразили посетившего Цинь в начале III в. до н.э. Сюнь-цзы) сказались на военн^хх успехах. Наибольшие достижения в этом плане связаны с полководцем Бай Ци, который в середине III в. до н.э. одержал над соседними царствами ряд решающих побед,, завершившихся неслыханными жестокостями. Так, например, после сражения под Чанпином в 260 г. до н.э. все четыреста тысяч воинов царства Чжао были казнены (цифра столь невероятна, что подчас ставится исследователями под сомнение).
Успехи Цинь, как упоминалось, нвызвали отчаянную попытку уцелевших царств создать коалицию, вертикаль — цзун (включающую все царства от северного Янь до южного Чу), против
' западного Цинь. Коалицию поддер-
жал и дом Чжоу. Но было уже поздно. Противники Цинь один за другим терпели поражение. Рухнул и дом Чжоу, а девять треножников— символ власти сына Неба — перешли к Цинь. Уже в 253 г. до н.э. именно циньский ван вместо чжоуского сына Неба принес в своей столице очередную официальную жертву в честь небесного Шанди. На этом, собственно, формально и кончилась эпоха Чжоу. Однако завершающие удары, окончательно сокрушившие соперников Цинь в борьбе за импе
Цинь Ши-хуанди
рию, пришлись на последующие
десятилетия и были связаны с именем и деятельностью последнего правителя царства Ин Чжэна, будущего императора Цинь Ши-хуанди (259—210 гг. до н.э.).
Став у власти в 246 г. до н.э. в 13-летнем возрасте, он вначале опирался на помощь главного министра Люй Бувэя (Сыма Цянь приводит легенду, согласно которой Ин Чжэн был сыном наложницы, подаренной его отцу этим Люем, делая намек на сомнительное происхождение императора), но затем решительно отстранил его от должности и назначил на нее легиста Ли Сы, уже упоминавшегося ученика Сюнь-цзы. Ли Сы оказывал большое влияние на молодого правителя, и некоторые специалисты
112
не без основания считают, что именно его, а не Ин Чжэна следует считать подлинным создателем империи Цинь.
Судя по имеющимся данным, Ли Сы был решителен и жесток. Он оклеветал своего талантливого соученика Хань Фэй-цзы, блестящего теоретика позднего легизма, которому явно завидовал, и тем самым довел его до гибели (впоследствии, прочитав сочинения Ханя, Ин Чжэн сожалел, что заключил его в тюрьму, где тот, по преданию, принял яд, полученный от Ли Сы).
Ин Чжэн и Ли Сы продолжили успешные войны с соперниками на востоке. В 230 г. до н.э. б^хло уничтожено царство Хань, в 225 г. — Вэй, в 223 г. — Чу, в 222 г. — Чжао и Янь, а в 221 г. — Ци. После этого вся Поднебесная оказалась в руках Ин Чжэна. Он основал новую династию Цинь и стал именовать себя первым ее правителем (Ши-хуанди, Первый священный император). Собственно, именно этот 221 год до н.э. и поставил точку на периоде Чжаньго с его соперничеством царств и кровопролитными войнами. Естественно, что перед новым императором сразу же стал вопрос, как управлять добытой им в боях империей.
По совету Ли Сы Ши-хуанди решительно отверг идею создания уделов для своих близких, на чем настаивали советники, уважавшие традицию. И это легко было понять — удельная система вполне доказала свою деструктивность в периоды Западного Чжоу и Чуньцю, так что возрождать ее при стремлении к жесткой централизации не было ни смысла, ни необходимости. Что же касается традиций, то Ши-хуан готов был пренебречь ею. Взамен император создал стройную апробированную шанъяновским легиз-мом систему централизованной администрации. Он ликвидировал привилегии наследственной знати, насильственно переместив около 120 тыс. ее семей из всех царств чжоуского Китая в свою новую столицу с тем, чтобы оторвать аристократов и потомков прежних правителей от родных мест, лишить связи с бывшими подданными и тем ослабить этот наиболее опасный для его власти социальный слой. Вся империя, была разделена на 36 крупных областей, границы которых не совпадали с очертаниями прежних царств и княжеств, а во главе этих областей были поставлены губернаторы — цзюныиоу. Области в свою очередь б^хли поделены на уезды (сянь) во главе с уездными начальниками, сяньлинами й сяньчжанами, а уезды — на волости (сяк), состоявшие из мелких административных образований — типов, по десятку деревенек-общин ли в каждом из них.
Все должностные лица империи, будь то чиновники на уровне тинов, сянов, сяней или цзюней, работники центральных ведомств или цензората-прокуратуры, имели соответствующие административные ранги, свидетельствующие о месте и статусе
113
их обладателя. Если низшие из этих рангов могли иметь обычные простолюдины, то средние, начиная с 8-го, принадлежали только чиновникам, получавшим за свою службу жалованье из казны, а высшие (19 и 20-й ранги имели считанные единицы) предполагали даже право на кормление. Прокуроры в этой системе администрации обладали особым статусом и исключительными полномочиями. Они б^гли своего рода личными представителями императора, обязанными внимательно следить и правдиво докладывать ему обо всем, что происходит в стране. Тем самым система шанъянов-ских доносов была реализована в общегосударственном масштабе. Впрочем, вне зависимости от государева ока вся масса чиновничества была по шанъяновским же рецептам повязана круговой порукой с взаимной слежкой и наказанием за недонесение, с ответственностью поручителей за их провинившихся протеже.
В империи были отменены административные распоряжения и указы, действовавшие до того во всех царствах и княжествах, а взамен было введено новое жесткое законодательство. Суть этого законодательства (опять-таки по-шанъяновски до предела элементарная) сводилась к беспрекословному подчинению распоряжениям начальства под страхом суровых наказаний за малейшую провинность. Была введена новая система мер и весов, унифицированы денежные единицы (главной из них стала круглая медная монета с квадратным вырезом и именем правящего императора на лицевой стороне, сохранившаяся с тех пор до XX в.), меры длины (полуверста — ли) и площади (му). Вместо усложненного чжоуского письма б^хло введено упрощенное (лишу), в основных своих параметрах сохранившееся до XX в.
Весь административный аппарат страны, призванный следить за проведением в жизнь нововведений и осуществлять управление на всех уровнях, имел ряд важных привилегий, в частности освобождался от налогов и повинностей и хорошо оплачивался. Для лучшего контроля за ним была введена двойная система подчинения: чиновники на местах подчинялись как начальникам более крупных территориально-административных объединений, в которые они были включены, так и министрам и чиновникам соответствующих центральных ведомств, с требованиями которых они обязаны были считаться (как, впрочем, и с требованиями и указаниями цензоров-прокуроров). Военные подразделения также были включены в общую административную схему и лишены обособленности, которая могла бы излишне усилить власть их руководителей. Стоит заметить, что сразу же после создания империи Ши-хуанди приказал собрать во всех царствах оружие (имелось в виду оружие из бронзы, лучшее из того, чем обладали армии) и свезти его в столицу, где из него были отлиты колокола
114
и массивные статуи. Жест этот, несомненно, имел символический характер, ибо вообще-то император придавал оружию, как и армии, огромное значение.
Следуя легистским нормам, Цинь Ши-хуан поощрял земледельческие занятия. Все крестьяне империи получили наделы земли, налоги и повинности были достаточно умеренными, во всяком случае на первых порах, а земледельцы имели даже право, как уже упоминалось, на административные ранги — это придавало им престиж, вызывало уважение со стороны односельчан, а также давало шанс при выборах на должность старейшин (сань-лао) и т.п. Ремесла и торговля, имевшие уже в основном частный характер, хотя и продолжавшие обслуживать потребности двора и казны, не пользовались открытой поддержкой властей. Однако их и не преследовали, как к тому в свое время призывал Шан Ян. Напротив, наиболее богатые из ремесленников и торговцев могли стать откупщиками, налаживать производство руды, соли или вина, правда, под контролем властей. Контролировались и цены на важнейшие продукты питания, прежде всего на зерно. Была создана сеть государственных мастерских, куда отбирались для выполнения трудовых повинностей на определенный срок лучшие мастеровые, умевшие изготовлять оружие или иные высококачественные изделия, необходимые для все расширявшихся престижных потребностей верхов.
В рудниках, на строительстве дорог и иных тяжелых работах, включая строительство столицы с ее сотнями роскошных дворцов и мавзолеем для императора, а также на сооружении Великой стены использовались как рядовые подданные, обязанные нести трудовую повинность, так и порабощенные за преступления, коих было весьма много. Миллионы преступников, мобилизованных крестьян и ремесленников ежегодно направлялись на эти стройки, особенно на север, где возводилась стена. Существовавшие там и прежде валы, возводившиеся правителями северных царств Чжунго против набегов кочевников, были перестроены, соединены воедино и превращены в облицованную камнем гигантскую стену с башнями, бойницами и воротами именно при Ши-хуане, за десять с небольшим лет. За эти же годы была отстроена сеть стратегических дорог, соединявших столицу с далекими окраинами империи. Сам император ездил по ним с инспекционными поездками, устанавливал время от времени в различных районах империи стелы, на которых записывал свои деяния и заслуги.
Заметим, что в целом легистская система административных реформ и методика их осуществления давали эффект, причем Достаточно быстрый и наглядный. Империя преобразовывалась
115
очень быстро, обретая безусловный Порядок, но не слишком-то заботясь при этом о внутренней Гармонии. Пожалуй, именно в этом и было ее слабое место. Конфуцианцы и иные оппоненты императора много и открыто критиковали его за отказ от традиций, жестокость наказаний, небрежение к тем самым духовным потенциям нравственности и добродетели, которые были едва ли не главным в учении Конфуция и во многом соответствовали уже сложившейся ментальности и основам мировоззрения жителей Поднебесной. Император агрессивно реагировал на критику. В 213 г. до н.э. он приказал сжечь все древние книги, в 212 г. — казнить 460 наиболее активных оппонентов. Это усилило ненависть к нему. На Ши-хуана совершались покушения, он боялся спать дважды в одном и том же дворце и не сообщал, где намерен провести следующую ночь.
Ненависть к новым порядкам и их живому олицетворению Ши-хуану усиливалась, по мере того как первые результаты реформ, давших экономический эффект, стали перекрываться дискомфортом, вызывавшимся армейско-казарменными порядками в стиле Шан Яна, к которым подавляющая часть населения Поднебесной не привыкла. Отправление на строительство Великой стены воспринималось в стране как ссылка на каторгу, откуда мало кто возвращается. Длительные войны против сюнну на севере и во вьетских землях на юге тоже были чем-то вроде бессрочной ссылки. По мере нехватки средств в казне поборы с населения увеличивались, что вызывало протесты. Недовольство жестоко подавлялось, виновные — будь то критикующие конфуцианцы или бунтующие крестьяне — сурово наказывались. Средств для строительства и войн требовалось все больше, взять их можно было только лишь за счет увеличения налогов и трудовых повинностей. И налоговый гнет беззастенчиво увеличивали, не считаясь с тем, вынесет ли его и без того обездоленный народ. К тому же жестокость по отношению к конфуцианцам и конфуцианству лишила людей даже не столько права апеллировать к традиции, скрлько духовного комфорта. В результате порядок без гармонии обратился в экстремистский произвол, в своего рода беспредел, способный вызвать лишь отчаяние и толкнуть на крайние меры ради попранных принципов и идеалов.
Как легко заметить, циньская модель централизованного государства, воплощенная в жизнь стараниями Ши-хуана и Ли Сы, заметно отличалась от конфуцианской в стиле идеальной схемы Чжоули. Если у конфуцианцев огромную роль играли патернализм и постоянная мелочная, даже навязчивая забота управляющих верхов об управляемых низах, к которой чжоусцы за дрлгие века в определенной мере привыкли и которая санкционирова-
116
лась традицией, то здесь все было иначе. Конечно, справедливости ради следует заметить, что и в легистской схеме Цинь Ши-хуана было определенное место для традиции, опиравшейся именно на конфуцианские ценности: Чтобы убедиться в этом, достаточно прочесть помещенные в шестой главе сочинения Сыма Цяня тексты стел, в которых есть немало рассуждений на тему о гуманности и справедливости, даже о деяниях древних мудрецов. Иными словами, циньский император был в какой-то мере при-частен к идее синтеза конфуцианства и легизма, пусть даже в наиболее близкой к жесткому легизму форме. И все же от такого синтеза у Ши-хуана остались в основном только стереотипные фразы. Что же касается конкретных дел и тем более стратегии строительства империи, то здесь легистская административная модель предстала в своем наиболее бесчеловечном варианте.
Это хорошо видно на примере всей деятельности императора, который явно недостаточно понимал и, главное, практически не учитывал традиционную социально-психологическую ориентированность своих подданных. Фразы из стел, обращенные к потомкам, никак не влияли на смягчение политики, где преобладал безусловный административный диктат и практически не было места привычному для людей традиционному конфуцианскому патернализму. Умело выстроенный Ши-хуаном и Ли Сы гигантский аппарат бюрократической администрации давил на подданных. Тех же, кто критиковал императора, Ши-хуан гневно ставил на место, а то и безжалостно казнил.
Все это и привело к краху империи. Пока был жив Ши-хуан, никто не смел, да и не мог всерьез противостоять аппарату государственного принуждения. Но после его смерти (в 210 г. до н.э.) ситуация резко изменилась. Унаследовавший трон Эр Ши-хуанди не только не обладал способностями, характером и авторитетом отца, но и вообще едва ли годился в правители (сам Щи-хуан перед смертью завещал передать власть критиковавшему его порядки старшему сыну, чего Ли Сы и другие приближенные сделать не захотели). В результате империя вступила в период придворных интриг и политической неустойчивости, что в свою очередь придало силы оппозиции двора императора. Начались восстания. Их по-прежнему жестоко подавляли, но сил на это уже не хватало. В стране быстрыми темпами росло недовольство. Испуганный Эр Ши-хуан попытался было прибегнуть к казням сановников и приближенных, наиболее ненавистных народу и опасных трону и лично ему. Но империи уже ничто не могло помочь.
Осенью 209 г. до н.э. всп^ххнуло восстание Чэнь Шэна, за ним начались другие. Эр Ши-хуан объявил большую амнистию в Поднебесной, стал мобилизовывать войска против повстанцев. Были
117
сокращены расходы на дорогостоящие стройки, обвинены в преступлениях и казнены еще некоторые видные сановники, включая и Ли Сы. Но, несмотря на все усилия, движение восставших ширилось и набирало силу. Во главе его стал Сян Юй, выходец из б^твшего царства Чу. Евнух Чжао Гао, сменивший Ли Сы в качестве главного советника императора, попытался было взять власть в свои руки. По его приказу Эр Ши в^1нужден б^]л покончить с собой. Однако вскоре во дворце б^]л заколот и сам Чжао Гао. Циньский двор агонизировал, и вскоре династия Цинь прекратила свое существование.
Тем временем у Сян Юя объявились соперники, сильнейшим из котор^1х стал в^1ходец из крестьян Лю Бан. ^ительная междоусобная борьба завершилась победой Лю Бана, который и стал основателем новой династии Хань.
История гибели династии Цинь поучительна и заслуживает специального внимания. Как известно, эта тема интересовала многих, начиная с современников событий. Так, в шестую главу труда Сыма Цяня, посвященную жизнеописанию Цинь Ши-ху-анди, включено эссе Цзя И, касающееся причин падения, казалось бы, могущественной империи, просуществовавшей менее 15 лет. Цзя И упрекал Ши-хуана за излишнюю самоуверенность, жестокости и бесчинства, осуждал его за отказ внимать критике и исправлять ошибки. Он считал, что недовольство и восстание народа в такой ситуации были неизбежны. По его мнению, отказ от традиций, пренебрежение ими в конечном счете стали причиной краха Цинь.
Можно во многом согласиться с Цзя И. Но более важно обратить внимание на то, что империя Цинь стала в истории Китая своего рода гигантским социально-политическим экспериментом. Это б^]л триумф жесткого легизма, неожиданно продемонстрировавшего в момент наивысшего своего торжества всю его внутреннюю слабость. Казалось бы, — вот она, желанная цель! Страна объединена и усмирена, враги повержены, народ пользуется благами эффективных экономических реформ, империя почти процветает. Правда, для окончательного торжества нужны еще некоторые усилия — необходимо достроить столицу с ее 270 дворцами и пышным мавзолеем, нужны стратегические дороги, Великая стена для защиты от набегов и демонстрации величия империи. Необходимы и дорогостоящие военные экспедиции против варварских племен на севере и юге, дабы все знали о Цинь и трепетали. При этом легистских правителей империи не смущало то, что народ не привык к резко изменившемуся образу жизни, что новые стандарты противоречат укоренившимся традициям, а первые экономические результаты оказались съедены непо-
118
сильными последующими затратами и расходами жизненных сил подданных империи.
Нельзя не считаться с тем, что период Чжаньго подвел Поднебесную к объединению. Справедливо и то, что институционально, с точки зрения создания работающей административной схемы гигантского государства, наибольший вклад в объединение Поднебесной внесли именно легисты. Собственно, благодаря ле-гизму и реформам Шан Яна укрепилось царство Цинь, сумев одолеть своих соперников и основать империю. Естественно, что эта империя стала легистской и что это был триумф легизма. Однако легизм в его шанъяновской форме был оправдан и принес полезные плоды в отсталом царстве Цинь середины IV в. до н.э., т.е. в стране, где еще не было ни больших городов, ни развитой частной собственности и торговли, ни сколько-нибудь заметной интеллектуальной традиции. Те немногие конфуцианцы, которые посещали Цинь или жили там во времена Шан Яна, не играли заметной роли в жизни полуварварского общества, еще достаточно равнодушного к традициям Чжунго. Неудивительно, что Шан Ян открыто третировал их, именуя паразитами за то, что они не занимались полезным физическим трудом.
Но с тех пор многое изменилось, в том числе и царство Цинь, где во второй половине III в. до н.э. уже существовала частная собственность и были достаточно развиты торговля, города и даже интеллектуально-культурные традиции. Еще больше в этом плане изменились государства других частей чжоуского Китая, особенно Чжунго, где ремесла и торговля, города и частная собственность, интеллектуальная жизнь и игра мысли, подчас весьма тонкая и изощренная, давно уже стали нормой. И все это многообразие жизни Цинь Ши-хуан и Ли Сы хотели подчинить своим жестким легистским законам.
В отличие от конфуцианской традиции, которая гармонично впитывала в себя нововведения и, более того, придавала им обогащенный высоконравственной традицией приемлемый для всех облик, легизм относился к иным доктринам резко отрицательно. Он отвергал все то, что зарождалось в соответствии с духом этической традиции конфуцианства, что вписывалось в эту традицию и обогащало интеллектуальный потенциал Поднебесной. Тем самым легизм помимо его жесткости и бесчеловечности становился откровенно реакционным. Он откровенно отрицал все новое и не соответствовавшее его нормам. Он не любил неожиданностей, ибо они были для него опасны, не терпел замечаний и тем более критики со стороны оппонентов, ибо это подрывало прочность его позиций. То есть, в тех условиях, которые уже
119
сложились в Китае к концу Чжаньго, легизм оказался нежизнеспособным.
Это утверждение может показаться резким — ведь сумел же Ши-хуан добиться многого за немногие год^т его власти. Достаточно вспомнить о Великой стене! Но на это есть четкий ответ: жестокий режим способен на многое, но ценой невероятного напряжения сил, ценой жизни поколения. Однако крайность никогда не может стать нормой. Любой экстремизм неизбежно порождает ответную реакцию, причем достаточно быстро. Общество не в^тносит дательного перенапряжения. Релаксация же в обществе легистского типа означает крушение всего того, на чём держится жесткость легизма. А коль скоро основы рушатся, гибнет и все остальное. В этом и заключается главная причина краха вроде бы сильной и великой империи. В этом и проявилась нежизнеспособность легизма, который неизбежно должен был быть заменен иной структурой, более мягкой, человечной и потому жизнеспособной. Такой структурой в Китае стала конфуцианская империя — империя Хань.
2. ИМПЕРИЯ ХАНЬ. У-ДИ И ЕГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
Китайская империя складывалась как централизованное государство на протяжении ряда веков. В принципе империя — это высшая ступень процесса политогенеза. Существовать она может лишь на основе централизованного аппарата власти, который в свою очередь должен опираться на силу. Поэтому нет ничего удивительного в том, что китайская империя возникла в легистской форме. Это б^]л своего рода апофеоз циничной силы. Однако одной силы для формирования устойчивой империи мало. Нужны институты, которые способствовали бы стабилизации социума и хозяйственному балансу. Тому и другому легисты уделяли мало внимания — и проиграли. На смену им пришла новая династия, приложившая немалые усилия для создания социальной стабильности и экономической устойчивости. То и другое б^зло объективно необходимым для структуры, в привычных рамках которой, базировавшихся на власти-собственности и централизованной редистрибуции, возникли противостоявшие тому и другому новые институты рыночно-частнособственнического характера.
Эти институты, как о том уже упоминалось, были вписаны в прежние, но легисты нимало не заботились о том, чтобы создать некий устойчивый баланс между имущими и неимущими, городом и деревней, правящими верхами и обездоленными низами. И именно массы обездоленн^1х — безземельн^1х и батраков, арен-
120
даторов и наемников, рабов и слуг — сыграли немалую роль в создании той нестабильности, которая проявилась после смерти Ши-хуана и утраты его преемниками главного, что они имели, т.е. грубой силы. Создать подлинно устойчивую империю, которая опиралась бы не только и даже не столько на силу, сколько на умело выстроенную административно-политическую и социально-хозяйственную структуру, обеспечивавшую консервативную стабильность и обществу, и государству, выпало на долю правителей династии Хань.
Империя Хань возникла не сразу после того, как в 207 г. до н.э. династия Цинь прекратила свое существование. Китай на протяжении нескольких лет был ареной жестокой политической борьбы между претендентами на пустующий императорский трон. Возглавлявшие враждующие регионы военачальники в энергичных схватках сводили счеты друг
с другом, создавая на завоеванных ими землях все новые и новые княжества и царства, названия которых иногда совпадали с прежними, существовавшими на тех же территориях до Цинь, а иногда звучали по-новому. Сильнейшими среди них, как упоминалось, оказались вновь созданные политические образования домов Сян и Хань. Борьба между ними завершилась в 202 г. до н.э., когда принявший титул императора ханьский Лю Бан (Гао-цзу) фактически овладел властью во всей Поднебесной.
Но какая империя досталась Лю Бану?! Страна лежала в руи
Лю Бан (основатель династии Хань)
нах, ибо отнюдь не все поверженные противники согласились на безоговорочную капитуляцию. Многие из них, напротив, продолжали сопротивляться, ведя дело ко все большей разрухе. Однако главное было в том, что сила центростремительных факторов и тенденций, веками вызревавшая в недрах чжоуского Китая и в немалой степени обеспечившая Цинь Ши-хуанди объединение страны в гигантскую империю, не просто иссякла, но и как бы обернулась своей противоположностью. Наглядный отрицательный опыт недолговечного легистского эксперимента Ши-хуана и последовавший затем развал его империи были той реальностью, с которой столкнулся
121
одолевший своих соперников и вновь пытавшийся собрать империю воедино Лю Бан. Конечно, долгодействующие факторы и тенденции сыграли при этом свою позитивную роль, ибо они объективно отражали то, что было результатом длительного исторического процесса: Китай был готов к объединению и вопрос сводился лишь к тому, кому и как удастся этого добиться. Но неудача Цинь не просто замедлила позитивн^тй процесс. Она как бы повернула его вспять, резко замедлила его ход, заставила многое создавать заново, причем в самых неблагоприятных для этого условиях всеобщей разрухи и развала.
Здесь важно вспомнить, что легизм Ли Сы, реализованн^тй в империи Цинь, был крайне нетерпимым. Он ставил своей целью вытравить из памяти людей все то, что так или иначе не совпадало с его нормами и тем самым было оппозиционно по отношению к ним. Понятно, что при этом вся громадная административно-чиновничья система создавалась из тех, кто был слепо послушен легистской доктрине и ревностно реализовывал на практике ее нормативы. И это было как раз то наследство, которое получил не очень-то образованный выходец из крестьян Лю Бан, когда он сел на трон и оказался перед необходимостью управлять империей. Как управлять? С кем управлять? На кого и на что опираться? Эти вопросы были для него тем более актуальными, что, судя по данным восьмой главы труда Сыма Цяня, специально посвященной Гао-цзу, едва ли не все немногие год^т его правления в качестве императора новой династии Хань прошли в сражениях с мятежниками, то и дело пытавшимися оспорить его победу и статус императора. И хотя Лю Бан в конечном счете одолел всех своих врагов и, по выражению того же Сыма Цяня, «усмирил Поднебесную», повернув государство «на верный путь», ему и тем более стране это далось нелегко.
Разумеется, у Лю Бана были знающие и опытные советники, в том числе и из числа уцелевших конфуцианцев. Однако они мало что могли сделать при жизни императора в условиях постоянных войн и мятежей, разрухи и развала, не имея достаточного количества помощников-единомышленников, которые были уничтожены еще в Цинь. Кроме того, в институциональном плане противопоставить полуразвалившейся, но все же как-то существовавшей легистской административной системе им было практически нечего. Тексты «Чжоули» здесь помочь не могли. Потому Гао-цзу не очень-то спешил с радикальными реформами, не слишком старался противопоставить свой новый режим обанкротившемуся легистскому. Напротив, он старался опереться на те остатки административной легистской структуры, которые
122
уцелели со времен Цинь, сделав при этом все необходимое для того, чтобы смягчить жесткость легизма Ли Сы и Цинь Ши-хуана.
Уже в 202 г. до н.э. по случаю инаугурации Лю Бан провозгласил широкую амнистию, призвав всех беглых и изгнанных вернуться домой и получить свои земли и жилища. Он отменил суровые наказания времен Цинь и сделал акцент на нижнем звене администрации, на сельских старейшинах — саньлао, в среде которых бытовали древние традиции. Сохранив легистскую систему административных рангов, низшие, восемь из них он распорядился по-прежнему присваивать простолюдинам, включая сань-лао. В 199 г. до н.э. было начато строительство дворцового комплекса Вэйянгун в новой ханьской столице Чанань. Однако главной слабостью ханьской власти продолжало быть отсутствие надежной централизованной административной системы. Создать ее вместо развалившейся циньской было делом нелегким и требовало много времени. Кроме того, Гао-цзу сознавал необходимость вознаградить всех, кто помог ему одержать победу, кто был рядом с ним в суровые годы, кто был в числе его родственников и приближенных. Способ вознаграждения, известный из древнекитайской истории, был один — раздать заслуженным людям титулы, ранги и соответствующие земельные пожалования, по большей части с заметными иммунитетными правами, что превращало всех их в могущественных удельных властителей.
Трудно сказать, какой из факторов при этом решении сыграл наибольшую роль, быть может, чашу весов при сомнениях — а сомнений не могло не быть: слишком хорошо было известно, какие опасности таит в себе создание в рамках страны большого количества полунезависимых уделов, — перевесила ссылка на традицию, которой пренебрег в свое время Цинь Ши-хуан, но с которой твердо решил считаться Лю Бан. Во всяком случае, принципиальное решение было принято уже в первые годы его власти, когда в Поднебесной и было создано 143 удела. В среднем это были уделы в 1—2 тыс. дворов, иногда меньшие, но подчас и много большие, вплоть до 10—12 тыс. Каждый из владельцев удела и только он имел титул хоу, передававшийся вместе с уделом по наследству. Ближайшие преемники Лю Бана продолжали в этом смысле его политику, жалуя десятки новых уделов своим близким родственникам и заслуженным помощникам. Со времена многие представители удельной знати настолько укрепились в своих владениях, что наиболее близкие из них по степени родства с императором стали именоваться уже титулом ван. Ваны и хоу чувствовали себя в своих уделах прочно и порой затевали мятежи против законного правителя Поднебесной.
123
Впрочем, в масштабах Поднебесной в целом удельная знать и по числу и по количеству подданных занимала не слишком заметное место. Хотя хлопот с ней было немало, на политику страны в целом она влияла не столь уж сильно. Львиная доля территории и подданных властителя Поднебесной оставалась под властью центра, и потому едва ли не самой важной задачей было создать надежную систему централизованной администрации, на которую могла бы опираться империя. Собственно, это и было главной целью деятельности нескольких ближайших преемников Лю Бана, вплоть до его великого правнука У-ди, который окончательно решил, наконец, проблему управления империей. Но до У-ди были еще правители, о которых необходимо сказать хотя бы несколько слов.
Со 195 по 188 г. страной управлял один из сыновей Лю Бана — Хуэй-ди. После него власть перешла в руки вдовы Лю Бана, императрицы Люй, которая окружила себя родней из своего клана Люй. Многие из их числа получили высшие титулы ванов и хоу, наследственные уделы и высокие должности. Императрица Люй скончалась в 180 г. до н.э. от загадочной болезни, которую Сыма Цянь, насколько его можно понять, склонен был считать небесной карой за ее преступления. После смерти Люй временщики из ее клана были уничтожены.
В истории и исторической традиции Китая к императрице Люй-хоу отношение сугубо отрицательное. Ее осуждают за жестокость по отношению к соперницам, за убийства государственных деятелей, низложение законных наследников, возвышение родственников из клана Люй и многое другое. Конечно, внимательно прочитав посвященную ей девятую главу труда Сыма Цяня, можно согласиться с тем, что она была властной, жестокой и честолюбивой правительницей. Но заключительные строки той же главы говорят: «…правительница Гао-хоу осуществляла управление… не выходя из дворцовых покоев. Поднебесная была спокойна. Наказания всякого рода применялись редко, преступников было мало. Народ усердно занимался хлебопашеством, одежды и пищи было вдоволь».
Это значит, что придворные интриги и кровавые разборки вокруг трона не слишком-то сказывались на положении дел в стране. Даже напротив, реформы Лю Бана, включая снижение налогов с землевладельцев, проведение ирригационных работ, обложение тяжелыми налогами богатых торговцев и заботу о поддержании статуса рядовых чиновников, постепенно давали позитивные результаты. Смягченные легистские методы управления и поощрение конфуцианских традиций приводили к пополнению администрации за счет активных конфуцианцев. Знатоки
124
конфуцианства сумели по памяти восстановить тексты уничтоженных Цинь Ши-хуаном книг, и в первую очередь всего конфуцианского канона, обросшего теперь многочисленными комментариями. И то обстоятельство, что ни Хуэй-ди, ни Люй-хоу, погруженные в дворцовые развлечения и интриги, не очень-то вмешивались в дела управления Поднебесной, как бы перепоручив их представителям традиционной культуры, заместившим собой скомпрометированных легистских сановников, пошло (вкупе со своевременными и разумными реформами Лю Бана) на пользу Поднебесной. Это стало особенно очевидным, когда на престол сел один из сыновей Лю Бана Вэнь-ди.
За 23 года своего правления (179—157 гг. до н.э.) Вэнь-ди много сделал для возрождения конфуцианских традиций и процветания ханьского Китая. Он начал с того, что объявил всеобщую амнистию, щедро наградил очередными рангами чуть ли не всех их обладателей, отметил особенными наградами и пожалованиями тех, кто сыграл главную роль в искоренении клана Люй и наведении порядка в стране. Вэнь-ди отказался от жестокой практики наказания за преступления родственников преступника. При этом он ссылался на конфуцианский тезис о том, что чиновники обязаны воспитывать народ, а не наносить ему вред несправедливыми законами. По случаю назначения наследником своего сына и возведения в ранг императрицы его матери Вэнь-ди снова щедро наградил многих и особенно выделил неимущих, вдов и сирот, бедных и одиноких, а также стариков старше восьмидесяти, которым были пожалованы шелка, рис и мясо. Награды были даны и ветеранам, приближенным Лю Бана.
В день солнечного затмения в 178 г. до н.э. Вэнь-ди выступил с покаянным обращением к народу, скорбя о своем несовершенстве и предлагая по древнему обычаю выдвигать мудрых и достойных, готовых послужить на благо народа. В том же году он лично провел борозду на храмовом поле и объявил о праве каждого выступать с критическими замечаниями в адрес самого высокого начальства. В 177 г. до н.э. Вэнь-ди заключил с то и дело беспокоившими Поднебесную северными соседями сюнну дс вор о братстве. Он разрешил части сюнну расположиться в районе Ордоса, т.е. на землях Поднебесной к югу от стены, где издревле обитали кочевники и заниматься земледелием было делом рискованным.
Вэнь-ди был щедр на милости, он прощал восстававших против него мятежных аристократов, выступал за смягчение наказаний, особенно телесных, отменил в 166 г. до н.э. земельный налог, одновременно усилив пошлины и подати с городского населения, торговцев и ремесленников (налог был восстановлен
125
после его смерти в 156 г. до н.э.). Император заботился о своевременном приношении жертв, о процветании народа, об умиротворении сюнну. В неурожайн^тй 159 год до н.э. он сильно сократил престижные расходы двора, открыл казенные амбары для выдач голодающим и разрешил продавать ранги, а также обладающим рангами бедным крестьянам уступать их более зажиточ-н^тм соседям. Дело дошло до того, что в конце жизни Вэнь-ди потребовал от своих домашних одеваться в простую одежду, не носить дорогих украшений и завещал после его смерти не слишком тратиться на дорогостоящие траурные обряды.
Вэнь-ди умер в 157 г. до н.э. Впоследствии он б^]л очень высоко оценен потомками, восхвалявшими его добродетели. Стоит заметить, что достоинства Вэнь-ди хорошо вписывались в традиционные представления о мудром и добродетельном правителе, и именно он был первым из ханьских императоров, которого можно считать образцовым с точки зрения конфуцианства. Это означает, что примерно за треть века ханьский Китай сильно переменился. Скомпрометированный жестокими годами тяжелых экспериментов легизм ушел в прошлое, оставив в качестве
A55D
Территория империи Хань до завоевательных походов У-ди
126
наследства централизованную бюрократическую систему и немалое количество связанных с ней институтов. Усилиями конфуцианцев это наследство было серьезно трансформировано и к эпохе Вэнь-ди достаточно легко вписывалось в те воспетые схемами Чжоули патерналистские традиции, которые стали явственно выходить на передний план.
Годы правления сына Вэнь-ди и внука Лю Бана императора Цзин-ди (156-141 гг. до н.э.) б^хли отмечены амнистиями, демонстрировавшими милосердие к падшим. Цзин-ди умиротворял сюнну, гасил мятежи удельных князей, занимался упорядочением администрации, а в своем посмертном эдикте всех пожаловал очередным административным рангом. Важно заметить, что в годы его правления началось планомерное наступление на права удельных князей, земли которых урезались, что подчас служило поводом для мятежей.
Преемником Цзин-ди был его сын и правнук Лю Бана У-ди (140—87 гг. до н.э.). Именно за годы его правления, которое б^хло одним из наиболее долгих и плодотворных в истории Китая, конфуцианство не только окончательно вышло на передний план и стало основой образа жизни китайцев, но и оказалось фундаментом всей зрелой китайской цивилизации. С этого времени, с царствования ханьского У-ди, почти полуторатысячелетний период древнекитайской истории — исто
рии урбанистических государственных образований и складывания ци-вилизационных основ — завершает свой путь и передает эстафетную палочку истории развитой и сложившейся конфуцианской империи.
Ханьский Китай времен У-ди — это период расцвета еще недавно, чуть более полувека назад воссозданной из руин империи. Земледелие в стране процветало, причем налоги были сравнительно низкими, обычно не более 1/15 части урожая. Правда, они дополнялись подушной податью, а также различного рода от
53
работками и повинностями, но в целом все это б^хло обычно и потому терпимо. Резко увеличилось население страны, достигшее в I в. до н.э. 60 млн человек. Освоение новых земель дало толчок развитию агротехники, включая пахоту с применением тяглового скота (впрочем, оставшуюся достоянием лишь немногих), а также грядковую систему обработки
127
земли вручную (именно при этом способе обработки крестьяне в подавляющем своем большинстве получали хорошие урожаи со своих полей). Тщательно поддерживались старые и по мере необходимости создавались новые ирригационные системы. В порядке были дороги, а вдоль дорог поднимались новые города, число которых с начала имперского периода истории Китая непрерывно увеличивалось.
У-ди немало заимствовал из легистского опыта, переняв и развив те его стороны, которые оказались жизнеспособными и даже необходимыми для управления империей. Он восстановил учрежденную еще во времена Цинь Ши-хуана государственную монополию на соль, железо, отливку монет и изготовление вина, причем механизмом реализации этой монополии, весьма выгодным для казны, была система откупов. Богатые торговцы и ремесленники из числа зажиточных городских и особенно столичных жителей выплачивали в казну огромные деньги за право заниматься солеварением, металлургическим промыслом, винокурением или изготовлением монет и за получение дохода от всех этих производств. В городах существовали и казенные предприятия, где работали (чаще всего в порядке отработок, т.е. трудовой повинности) лучшие ремесленники страны. Они изготавливали самые изысканные изделия для престижного потребления верхов, а также оружие и снаряжение для армии и многое другое. Все это способствовало развитию хозяйства и увеличению числа частных собственников. Отношение к частным собственникам и особенно к богатым торговцам в ханьском Китае не отличалось от чжоуских времен, хотя и не было столь бескомпромиссным, как в шанъяновском легизме. Богатые торговцы жестко контролировались властью, возможности реализации их богатств были законодательно ограничены, хотя им разрешалось тратить деньги на покупку социально престижного ранга либо определенной — не слишком высокой — должности.
У-ди многое взял от административной системы легизма. Страна была разделена на области во главе с ответственными перед центром губернаторами. Важную роль, как и в Цинь, играла система повседневного контроля в лице облеченных высочайшими полномочиями цензоров-прокуроров. Преступники подвергались суровым наказаниям, нередко их, а то и членов их семей обращали в рабов-каторжников, использовавшихся на тяжелых работах, в основном строительных и горнодобывающих. В целях усиления централизации власти в 121 г. до н.э. был издан указ, фактически ликвидировавший систему уделов — каждому владельцу удела законодательно предписывалось делить свое владение между всеми его многочисленными наследниками, что призвано было
128
окончательно ликвидировать влиятельную прослойку наследственной знати, временами порождавшую мятежи и общую нестабильность в империи.
Будучи сильным и умным политиком, У-ди уделял огромное внимание внешнеполитическим проблемам, главной из которых были все те же сюнну, активизировавшиеся на северных границах. В поисках союзников в борьбе с ними еще в 138 г. до н.э. на северо-запад был послан Чжан Цянь, который вначале попал в плен к сюнну на долгие десять лет, но затем сумел бежать и выполнить возложенное на него поручение. Разведав территорию и изучив народы, обитавшие к западу от сюнну, Чжан Цянь после долгих лет странствий возвратился домой и составил для императора подробный отчет о своем путешествии. Отчет этот, будучи включен в качестве особой главы в сводный труд Сыма Цяня, дошел до наших дней и весьма помогает специалистам, изучающим историю бесписьменных народов, живших к северу от Китая в ханьское время.
У-ди был удовлетворен полученными от Чжан Цяня сведениями. И хотя главной цели — создания коалиции против сюнну — экспедиция не достигла, она дала много материала для оценки политической ситуации на северо-западных границах ханьского Китая. Получив сведения о великолепных даваньских (ферганских) лошадях, У-ди послал военные экспедиции в Ферганскую долину. Кроме лошадей, которые были в результате этого привезены в императорские конюшни, походы на Давань позволили открыть регулярные торговые связи с народами, обитавшими на территории современного Восточного Туркестана. Эти связи, обязанные своим происхождением в конечном счете Чжан Цяню, впоследствии получили наименование торговли по Шелковому пути, ибо из Китая на запад по вновь открытым торговым путям везли преимущественно высоко ценимый там шелк, доходивший транзитом до Рима. Великий шелковый путь с тех пор функционировал веками, хотя и нерегулярно, связывая со странами Запада оторванный от других развит^1х цивилизаций Китай. У-ди также направлял успешные военные экспедиции на восток, где им была подчинена часть корейских земель, и на юг, в район Вьетнама, где была аннексирована китайцами часть вьетнамских земель.
Успешная внешняя политика У-ди способствовала не столько развитию торговых связей с дальними странами (им в Китае придавали мало значения), сколько расширению территории империи, укреплению ее границ. И во внешней, и тем более во внутренней политике император преследовал цель упрочить фундамент императорской власти и возродить ту славу о великой
129
-5247
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "История Китая"
Книги похожие на "История Китая" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о " Меликсетов - История Китая"
Отзывы читателей о книге "История Китая", комментарии и мнения людей о произведении.