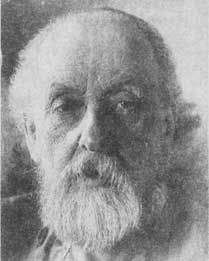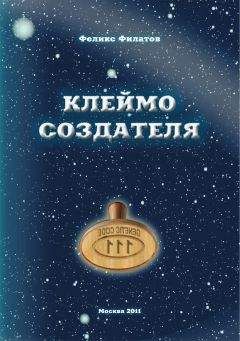Михаил Петров - Пираты Эгейского моря и личность.

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Пираты Эгейского моря и личность."
Описание и краткое содержание "Пираты Эгейского моря и личность." читать бесплатно онлайн.
Рукописи, как и книга «Язык, знак, культура», печатаются без сокращений и без изменений. Редакторские примечания, относящиеся главным образом к истории наследия или раскрывающие имена, которые не всегда можно обнаружить в справочниках, вынесены в подстрочник.
М., 1995. 140 с.
Но этот процесс устранения части авторитетных звеньев между богом и человеком затрагивал не только политические, но и теоретические основы христианства, прежде всего механизмы передачи абсолютного божественного знания человеку. По теологической догме, как она была сформулирована Оригеном и легла в основу схоластики, все доступное человеку божественное знание представлено в священном писании, причем книги Нового завета раскрывают смысл Ветхого. В согласии с этими постулатами священное писание оказывалось основным предметом теологии - только через него человек мог получить сведения о боге, а авторы священного писания становились посредниками между богом и людьми, своего рода переводчиками божественной мудрости на язык человека. Эта система постулатов хорошо согласовывалась с учением неоплатоников, неопифагорейцев и мистиков об экстазе как о единственном пути к познанию высших истин. Синтез постулатов Оригена с экстазом и породил фигуру пророка - фигуру ключевую для христианской теории познания, без которой священное писание лишается святости, а человек - контакта с богом в откровении, в котором бог «открывает» пророку знание для передачи его людям.
Естественно, что реформация затрагивала и эту фигуру посредника, особенно реформация философская. В работах XVI-XVIII вв. проблема пророка, источника знания, механизма приобретения нового знания, - одна из центральных. Именно с этим временем связана та обойма благородных терминов вроде экстаза, интуиции, вдохновения, творческих снов, озарений и т.п., которая широко используется при описании творчества и по сей день. Все это реликты и осколки действительной борьбы за эмансипацию философии и науки, за их независимость от теологии. Наиболее последовательным и тонким критиком концепции философии и науки, за их независимость от теологии. Исследуя пророков одного за другим, обстоятельства откровений и их содержание, он пришел к выводу: «Отсюда более чем достаточно обнаруживается то, что мы намеревались показать, именно: что бог приспособляет откровение к пониманию и мнениям пророков и что пророки могли не знать вещей, которые касаются чистого умозрения (а не любви к ближнему и житейской практики), и действительно не знали, и что у них были противоположные мнения. Поэтому далеко не верно, что от пророков следует заимствовать познание о естественных и духовных вещах. Итак, мы приходим к заключению, что мы не обязаны верить пророкам ни в чем, кроме того, что составляет цель и сущность откровения; в остальном же предоставляется свобода верить как кому угодно» (30, с. 46).
Но ниспровержение пророков есть вместе с тем и уничтожение христианской теории познания, заказ на новые источники и механизмы познания. В деизме как раз и реализуется этот заказ: природу ставят на одну доску со священным писанием, считая, что, поскольку бог в акте творения обходился без пророков-посредников, то именно в природе, если она сотворена по слову и плану, «записана» божественная мудрость. Поэтому задача новой «естественной» теологии познать бога через природу, то есть «прочитать» природу как самое священное и полное из всех священных писаний. Соответственно «книга природы» становится предметом поклонения и религиозного восторга. «Люди, сила которых столь незначительна, - пишет Гоббс, - заметив такие могучие творения как небо, земля, видимый мир, столь тонко задуманные движения животных, их разум, а также чудесную целесообразность в устройстве их органов, не могли не почувствовать пренебрежения к своему собственному разуму, который не в состоянии даже подражать всем этим вещам... Собственно говоря, именно этот эффект называется естественным благочестием и является первой основой всех религий» (31, с. 251). Эта мысль будет повторена многими философами и учеными. Кант, например, пишет: «Достойный восхищения порядок, красота и предусмотрительность, проглядывающие во всем в природе, сами по себе должны породить веру в мудрого и великого создателя мира» (32, с. 97).
Но в принципе естественного благочестия содержится новый, невыводимый из «замкнутого тела знания» контекст, в него имплицитно включено представление об огромности, неисчерпаемости божественного знания, то есть как источник знания природа предстает лишь частично познанной человеком, допускающей более полное, а по существу бесконечное познание. Вот здесь и появляется на сцене принцип богоподобия человека, его сотворенности по образу и подобию божьему. Богоподобие в деизме толкуется в том смысле, что человек по своей природе микробог, то есть деисты возвращают человеку-рабу божьему то, что было отнято у него историей со времен Одиссея: право каждого на активное использование слова. Этот принцип качественного тождества бога и человека, отсутствия между ними непроходимой грани постулируется деизмом в самых решительных и мы бы даже сказали эмоциональных формах. «Мы не должны отречься от наших чувств и опыта, - пишет Гоббс, - а также от нашего естественного разума (который является несомненным словом божьим). Ибо все эти способности бог дал нам, дабы мы пользовались ими до второго пришествия нашего святого спасителя. Поэтому они не должны быть завернуты в салфетку слепой веры, а должны быть употреблены для приобретения справедливости, мира и истинной религии. Ибо хотя в слове божьем есть многое сверх разума, то есть то, что не может быть ни доказано, ни опровергнуто естественным разумом, но в нем нет ничего, что противоречило бы разуму. А если имеется видимость такого противоречия, то виной этого является или наше неумение толковать слово божье, или наше ошибочное рассуждение» (31, т. 2., с. 379-380).
Таким образом, перед человеком-микробогом поставлена природа - божественное творение по слову, причем то слово, по которому творили природу, и то слово, которым владеет человек, - суть одно и то же слово. Иначе говоря, то, что мы знаем, и то, чего мы пока не знаем, - однородно и в логическом смысле гомогенно. Используя нашу способность логически мыслить, владеть словом, мы не встретим помех в приобретении новых знаний.
Нужно сказать, что умонастроения этого рода отнюдь не вчерашний день в науке и философии, особенно в философствующей науке, хотя теологические костыли такой конструкции афишируются редко, может быть, даже не осознаются. Так или иначе, но деистическая схема, противопоставив человеческой ограниченной мудрости бесконечную божественную, превратив природу в место неисчерпаемых залежей мудрости, открыла пути к познанию мира, философски (и теологически!) санкционировала эксперимент, то есть внешне все получилось очень похоже на описание научных чудес в одном из писем Эйнштейна: «Развитие западной науки основано на двух великих свершениях: на изобретении греческими философами логических систем (евклидова геометрия) и на открытии в эпоху Возрождения возможности вскрывать причинные связи с помощью систематического экспериментирования. Мне кажется, что удивляться здесь приходится не тому, что китайские мудрецы не сделали этих решающих шагов, атому, что эти шаги вообще были сделаны» (14, р. 15).
Нам, напротив, кажется, что удивляться здесь не приходится ни тому, ни другому. Китайские мудрецы, как и индийские и египетские, мудрость последних особенно высоко ценилась греками, не могли сделать этих шагов по той простой причине, что у них не возникало Эгейских «тундровых» условий, в которых вместе с развалом традиционной социальности разваливалась бы и ее мировоззренческая форма, не было у них требования на пересмотр структуры социальной памяти. С другой стороны, греки не могли не сделать первого шага, вынуждены были пойти на философскую санкцию дуализма слова и дела, на «изобретение логических систем», поскольку шаг этот был навязан новой социальной реальностью: домами гомеровских героев и последующей их интеграцией по слову в полисные структуры. Удивление может вызвать скорее второй шаг, и удивление окрашенное не столько в причинные цвета, - движение репродукции вынуждало задумываться над источниками нового знания, - сколько в цвета теологические: слишком уж легко совершился этот шаг, и сама эта легкость могла бы быть истолкована как «экспериментальное подтверждение» христианских доктрин о сотворенности природы и о богоподобии человека.
Чтобы снять эти цвета христианской побежалости и понять, что же произошло, почему наука рождается в христианской рубашке, нам нужно вернуться к Одиссею и здесь, на входе, посмотреть, что же именно попало под меч, отсекающий слово от дела. Сравнивая выход со входом, мы могли бы уже более основательно судить о том, где здесь на выходе что: где христианство, а где наука, и как они друг с другом связаны.
Прежде всего, и этот пункт требует постоянного внимания, судя по структуре одиссеева дома в дуализме слова и дела представлена только репродукция. В дальнейшем развитии этого дуализма в недрах греческой философии опоpa на репродукцию только усиливалась, поскольку именно она представлялась греческими философами и в действительности была в своих программах той вечной и неизменной сущностью, на поиски которой нацеливались усилия всех греческих, да и не только греческих философов. Соответственно, и бог христианства, создатель и хранитель христианского миропорядка, был богом стабильной репродукции, устойчивого порядка, высшей их санкцией.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Пираты Эгейского моря и личность."
Книги похожие на "Пираты Эгейского моря и личность." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Михаил Петров - Пираты Эгейского моря и личность."
Отзывы читателей о книге "Пираты Эгейского моря и личность.", комментарии и мнения людей о произведении.