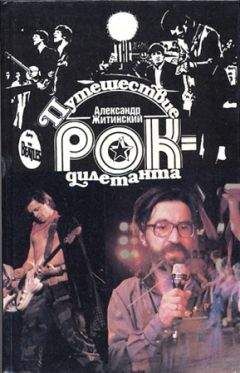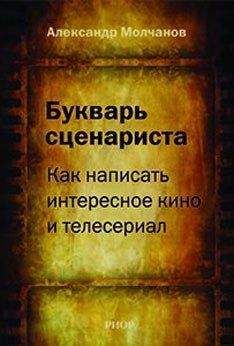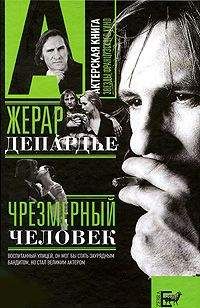Александр Флоря - Русская стилистика - 2 (Словообразование, Лексикология, Семантика, Фразеология)
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Русская стилистика - 2 (Словообразование, Лексикология, Семантика, Фразеология)"
Описание и краткое содержание "Русская стилистика - 2 (Словообразование, Лексикология, Семантика, Фразеология)" читать бесплатно онлайн.
Конечно,
почтенная вещь - рыбачить.
Вытащить сеть.
В сетях осетры б!
Но труд поэтов - почтенный паче
людей живых ловить, а не рыб
В.В. Маяковский. Поэт рабочий.
Между прочим, в заглавии этого стихотворения объединены понятия, которые сначала (следуя общепринятому мнению) репрезентируются как антонимы - тоже окказиональные, а не словарные, - затем же синонимизируются.
Еще одна функция антонимии - передача смысла взаимоисключения:
Я не знаю, как остальные,
но я чувствую жесточайшую
не по прошлому ностальгию
- ностальгию по настоящему.
А.А. Вознесенский. Ностальгия по настоящему
Взаимоисключающая семантика существительных подчеркивается синтаксическими средствами - бессоюзием, оформленным тире, а также анадиплосисом, т.е. совпадением окончания одной строки и начала другой. Ана-диплосис одновременно является здесь хиазмом, т.е. "крестообразным" расположением компонентов: субстантив + "ностальгия" - "ностальгия" + субстантив. Таким образом, антонимия заключается в рамки жесткой конструкции, которая максимально ее заостряет.
Антонимия может выражать ограничительный смысл - напр., в том же стихотворении:
Будто послушник хочет к господу,
ну а доступ лишь к настоятелю
Так и я умоляю доступа
без посредников к настоящему.
Как и в трех предыдущих примерах, антонимия здесь окказиональная, а не словарная.
Антонимией передается крайняя глубинная противоречивость чего-либо это характерная черта философского текста, в частности - медитативной лирики (размышлений поэта):
И в зле добро, и в добром злоба
И.-Северянин. Промельк
Вероятно, это реминисценция (неточное воспроизведение) шекспировской формулы "Праведность омерзительна, мерзость праведна" ("Макбет")
Fаiг is foul, foul is fair
или, как в большинстве русских переводов, "Зло есть добро, добро есть зло".
Эффект глобального противоречия производят тексты, в которых сконцентрированы различные функции антонимии:
Это было самое прекрасное время, это было самое злосчастное время, век мудрости, век безумия, дни веры, дни безверия, пора света, пора тьмы, весна надежд, стужа отчаяния, у нас было все впереди, у нас впереди ничего не было, мы то витали в небесах, то вдруг обрушивались в преисподнюю, словом, время это было очень похоже на нынешнее, и самые горластые его представители уже и тогда требовали, чтобы о нем - будь то в хорошем или в дурном смысле - говорили не иначе как в превосходной степени.
Ч. Диккенс. Повесть о двух городах. Перевод С. Боброва12 и М. Богословской
Диккенс говорит о Великой Французской революции - времени, перенасыщенном антиномиями. Оппозиции "самое прекрасное время/самое злосчастное время", "мудрость/безумие", "вера/безверие", "свет/тьма", "весна надежд/стужа отчаяния" контрарны и выражают взаимоисключающие понятия, смысл которых не вполне ясен. Им можно дать следующее толкование. Сочетания "век мудрости" и "век безумия" составляют парадокс: мудрость просветителей обернулась безумием их "эпигонов". "Свет" и "тьма", "весна надежд" и "стужа отчаяния" - это чередующиеся состояния, поскольку оформлены лексикой, имеющей отношение к природной цикличности. Зато "вера" и "безверие", по-видимому, не сменяли друг друга, а составляли "единство противоположностей", ядро духовной жизни той эпохи: просветители отрицали христианского Бога, но учредили культ Верховного Существа. Наконец, обороты "самое прекрасное время" и "самое злосчастное время" могут выражать и крайнюю, предельную противоречивость эпохи, осознаваемую автором почти век спустя. Но это могут быть и односторонние восприятия эпохи, относящиеся к разным людям, и сведенные автором воедино (в последнем случае эти характеристики не дополняют, а словно вытесняют друг друга). В пользу такого прочтения говорит дальнейший текст: "самые горластые его представители уже и тогда требовали, чтобы о нем (времени - А. Ф.) - будь то в хорошем или в дурном смысле - говорили (...) в превосходной степени".
Отметим еще одну деталь этого фрагмента. Он не просто противоречив, его противоречивость динамична. Она постепенно захватывает, вовлекает в свою орбиту все более крупные текстовые блоки. Начинаясь на уровне лексем, она распространяется на словосочетания ("весна надежд"/ "стужа отчаяния", и далее: "то витали в небесах"/"то обрушивались в преисподнюю") и даже фразы ("у нас было все впереди"/"у нас впереди ничего не было" ). Более того, сам текст насыщается смыслом какой-то глобальной - и очень изящно выраженной парадоксальностью. Обилие антонимов как будто указывает на исключительность описываемой эпохи, но тут же делается вывод о ее обыкновенности: "словом, время это было очень похоже на нынешнее".
Извиняемся за некоторый "вульгарный социологизм" интерпретации, но можно сказать, что эта насыщенность текста антонимией создает образ "противостояния классов", "общественных противоречий", а выход антонимии за пределы фрагмента, характеризующего Век Просвещения, воспринимается как "эхо" Революции, "качание" поколебленного ею мира.
Антонимические отношения динамизируются также за счет хиазма -напр.,
Я царь - я раб - я червь - я Бог!
Г.Р. Державин. Бог
Высокое и низкое здесь не просто чередуются. Без последнего элемента эта цепочка выглядит как антиклимакс, т. е. постепенное понижение, ослабление чего-либо (в данном случае ослабляется семантика могущества и силы: "червь" - это, разумеется, не животное, а "парий", еще более ничтожный, чем раб). Но когда появляется слово "Бог", смысл всей строки меняется. Строка распадается на две квази-симметричные части, соотносящиеся друг с другом, но не равнозначные. Вторая половина гиперболи-зует первую, поскольку элементы первой - по крайней мере, на вербальном уровне являются социально значимыми, "человеческими" терминами, а лексемы второй вырываются за границы человеческого мира и социума. Державин сначала обозначает самое высокое и самое низкое в человеческом обществе, а затем для усиления этого контраста то, что ниже низкого и выше высокого.
Другой пример динамизации антонимических отношений - изменение в пределах одного и того же контекста критерия для противопоставления:
Я всюду и нигде. Но кликни - здесь я!
М.А. Волошин. Два демона.
Сначала противопоставляются первые два наречия по принципу "тотальной" и "нулевой" локализации. Затем оба сразу противопоставляются наречию "здесь" по принципу абстрактной/конкретной локализации. Фактически основанием для антонимии в последнем случае стал признак рассредоточенности/сосредоточенности.
Похоже на антонимию, но не тождественно ей явление конверсии, при котором соотносятся элементы, противоположные по какому-то признаку, но выражающие одни и те же отношения. Признак чаще всего оказывается половым или возрастным, отношения - родственными: напр., жена и муж, мать и дочь. Конверсивы превращаются в антонимы, если начинают выражать антагонистические отношения: "отцы и дети" - расхожая формулировки для конфликтующих поколений.
Иногда, напротив, антонимия осмысливается как конверсия. Значение этого приема определяется как мнимое противоречие и глубинное родство:
Не отстать тебе. Я - острожник,
Ты конвойный. Судьба одна.
И одна в пустоте порожней
Подорожная нам дана.
М.И. Цветаева. Ахматовой
Обратим внимание на отсутствие в этом тексте личных глагольных форм. Безличность и пассивный залог передают значение несамостоятельности человека. Цветаева говорит: мы не противники, сама судьба соединила нас. Антонимы производят игровой эффект относительности (сильный именно их противоположностью), когда меняются местами, характеризуя одни и те же предметы или одних и тех же людей, как в забавной детской балладе:
Вот как это было:
Принцесса была
Прекрасная,
Погода была
Ужасная.
Днем,
Во втором часу,
Заблудилась принцесса
В лесу.
Смотрит: полянка
Прекрасная.
На полянке - землянка
Ужасная.
А в землянке - людоед:
- Заходи-ка на обед!
Он хватает нож,
Дело ясное.
Вдруг увидел, какая...
Прекрасная!
Людоеду сразу стало
Худо.
- Уходи, - говорит,
Отсюда.
Аппетит, - говорит,
Ужасный.
Слишком вид, - говорит,
Прекрасный.
И пошла потихоньку
Принцесса.
Прямо к замку вышла из леса.
Вот какая легенда ужасная!
Вот какая принцесса прекрасная! и т. д.
Т. Власихина. Людоед и принцесса, или Все наоборот
Потом, естественно, ужасной становится принцесса, прекрасной - погода и т. д. Особенно замечательным оказывается то, что в этой "релятивистской вакханалии" неизменным остается одно - людоедский аппетит: то ужасный, то прекрасный, но всегда один и тот же. Слова, проходящие через весь текст как антонимы, вдруг синонимизируются, усугубляя тем самым общий ералаш.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Русская стилистика - 2 (Словообразование, Лексикология, Семантика, Фразеология)"
Книги похожие на "Русская стилистика - 2 (Словообразование, Лексикология, Семантика, Фразеология)" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Александр Флоря - Русская стилистика - 2 (Словообразование, Лексикология, Семантика, Фразеология)"
Отзывы читателей о книге "Русская стилистика - 2 (Словообразование, Лексикология, Семантика, Фразеология)", комментарии и мнения людей о произведении.