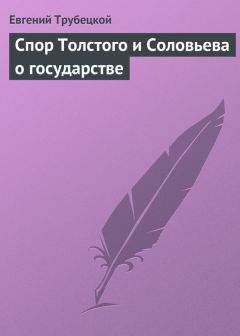Владимир Соловьев - Великий спор и христианская политика

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Великий спор и христианская политика"
Описание и краткое содержание "Великий спор и христианская политика" читать бесплатно онлайн.
Вл. Соловьев оставил нам много замечательных книг. До 1917 года дважды выходило Собрание его сочинений в десяти томах. Представить такое литературное наследство в одном томе – задача непростая. Поэтому основополагающей стала идея отразить творческую эволюцию философа.
Настоящее издание содержит работы, тематически весьма разнообразные и написанные на протяжении двадцати шести лет – от магистерской диссертации «Кризис западной философии» (1847) до знаменитых «Трех разговоров», которые он закончил за несколько месяцев до смерти. Можно сказать, что в идейном отношении философия Вл. Соловьева представлена здесь полностью. Последовательно раскрыты три темы, условные названия которых могут быть такими: «Христианство», «Россия», «Теоретическая философия».
Произведение входит в сборник «Спор о справедливости».
Византийское благочестие забыло, что истинный Бог есть Бог живых, и стало искать живого между мертвыми. Святыня, полученная нами чрез религиозное предание, – священное прошедшее христианства – тогда лишь может быть живою основою Вселенской Церкви, когда оно не отделяется от настоящей действительности и задач будущего. Эта святыня, это священное предание должно быть постоянною опорою современности, залогом и зачатком грядущего. В этом его жизненная сила. Тогда только и вековечные формы преданной нам святыни воплощаются в живом и бесконечном содержании. Тогда эта святыня не только хранится нами как что-то конченное и, следовательно, конечное, но и живет в нас, и мы живем ею, действует в нас, и мы действуем ею.
Церковь как вселенская или всемирная может быть и реализована только всемирною историею. Образующие начала Церкви (иерархия, догмат, таинства), сообщенные нам чрез предание, но по существу своему бесконечные, находят подлинное, соответствующее себе выражение и воплощение, – вполне реализуются или осуществляются, – лишь в целой жизни всего человечества во всей совокупности времен и народов. Поэтому святыню предания отнюдь не должно брать как нечто завершенное для нас, в отдельности от настоящей и будущей жизни мира. Отделенная от своей живой становящейся формы, почитаемая только в тех своих выражениях, которые уже стали, святыня Церкви необходимо теряет свою бесконечность, облекается и связывается ограниченными и мертвыми формами: ограниченными, потому что завершенная святыня завершилась когда-нибудь и где-нибудь в известных границах времени и места, – мертвыми, потому что завершенное где-нибудь и когда-нибудь тем самым отделяется от жизни, продолжающейся везде и всегда.
Когда совершенство Церкви полагается не впереди ее, а переносится, как это было в Византии, назад, в прошедшее, и это прошедшее принимается не за основу, а за вершину церковного здания, – тогда непременно случается, что существенные требования и условия религиозной жизни, которые должны исполняться всеми и всегда, приурочиваются исключительно к отдельным своим историческим выражениям, к формам, уже пережитым Церковью и тяготеющим над живым сознанием в виде внешнего факта. Существенное и вечное в церковной форме смешивается здесь с случайным и преходящим, и самый поток церковного предания, загражденный мертвящим буквализмом, уже не является в своем вселенском бесконечном просторе, но скрывается за частными особенностями временных и местных уставов.
Такое смешение в византийских умах вселенского предания с частным замечается уже в IX-м веке, а в XI-м это есть уже как бы поконченное дело. Непреложным свидетельством этого печального факта служат те поводы, по которым совершилось разделение церквей, или точнее, разрыв церковного общения между Византией и Римом. О нравственных и культурно-политических причинах этого разрыва мы говорили прежде; но весьма характеристичны церковные поводы и предлоги, в которые они облекались.
Уже патриарх Фотий, обиженный Римом, в своем втором письме к папе Николаю (861 г.) обращает внимание на некоторые особенности Латинской Церкви, как-то: бритье бороды и темени у священников, посты в субботу, безбрачие всего духовенства и т. п. Сам Фотий, правда, был и слишком просвещен и слишком тесно связан с великими преданиями вселенских учителей Церкви, чтобы придавать существенное значение таким частностям и видеть в них препятствие ко вселенскому единению, однако его указания имеют тот смысл, что эти обрядовые разности могут послужить оружием против Рима. И он сам, несколько лет спустя, воспользовался этим оружием в своем окружном послании к восточным патриаршим престолам (867 г.), где он осуждает (наравне с filioque), как ересь, нечестие и яд, те самые обрядовые и дисциплинарные особенности Римской Церкви, которые он же шесть лет назад признал за вполне позволительные местные обычаи. Этот факт, во всяком случае, показывает, что в среде восточной иерархии, к которой обращался Фотий, было довольно таких людей, для которых всякое наружное отличие от местных восточных форм церковного быта являлось равносильно отступлению от вселенского предания, казалось ересью и нечестием. Эти люди были благочестивы, но в их благочестии, привязанном исключительно к своему, родовому, отеческому, было слишком много старой языческой закваски.
Таких людей в Византийской Церкви было уже много при Фотии; через два столетия такими являются там чуть не все. Когда в половине XI-го века патриарх Михаил Керулларий, в своем послании к епископу Иоанну Транийскому, и затем Никита Стифат, в своих полемических сочинениях, торжественно и беспощадно осуждают латинян как еретиков за то, что они постятся по субботам, не поют аллилуйя великим постом, едят мясо удавленных животных и употребляют при Евхаристии пресный, а не квасной хлеб, – то этот приговор не встречает в Византии ни одного протеста или сомнения, так что взгляд, выразившийся в этих обвинениях, можно считать за безусловно господствующий в тогдашней Греческой Церкви.
На первом плане в этой церковной полемике XI-го века, имевшей такой печальный конец, стоит, как известно, вопрос об опресноках. Небесполезно будет остановиться несколько на этом пункте, весьма характеристичном для византизма. – Существеннейшую основу истинной религиозной жизни составляют церковные таинства. В них нам даются реальные начатки духовно-телесного общения божества с человечеством. Истинное благочестие требует, чтобы мы не только искали этого общения, но принимали и те независимые от нас условия, с которыми Вселенская Церковь связывает это общение. Истинное благочестие не позволяет нам вносить свой личный произвол в определение этих условий, но заставляет нас принимать те условия или те формы, которые даются одинаково для всех во вселенском предании, соответствующем вселенскому смыслу таинства и восходящем к Божественному Основателю Церкви. Но рядом с этими вселенскими формами таинства, при действительном его совершении в видимой Церкви, необходимо встречается множество чисто материальных подробностей, не имеющих ни божественного происхождения, ни вселенского значения, а зависящих от удобства и обычая. Таким образом, в действительном составе таинства по отношению к Церкви различаются: его внутренний смысл и назначение, затем, соответствующие этому смыслу существенные формы, божественного происхождения, содержимые вселенским преданием, неизменные и для нас[11] безусловно обязательные, – и, наконец, привходящие формы и обряды, человеческого происхождения, связанные с преданиями частных церквей, изменчивые и лишь относительно обязательные, – по месту и времени. Так, если мы возьмем величайшее таинство Евхаристии, то найдем, во-первых, его внутренний смысл и назначение в одухотворении человеческого питания (и следовательно, и всего телесного состава человека) чрез восприятие его в сферу духовной телесности Богочеловека Христа.[12] Мы различаем, затем, те существенные формы или способы совершения Евхаристии, которые связаны с назначением этого таинства и его божественным установлением, а именно: по образу первоначального совершения этого таинства самим Христом (в качестве священника по чину Мельхиседекову) чрез произнесение известных слов при благословении хлеба и вина, – и в Церкви, для действительного совершения Евхаристии, требуется непременно, чтобы, во-первых, она совершалась священником (который в каждом отдельном церковном собрании представляет собою Христа), во-вторых, чтобы при благословении произносились слова Христовы и, в-третьих, чтобы материей таинства, по примеру Христа и по смыслу бескровной жертвы, служили чисто человечные и бескровные питательные вещества, каковы хлеб и вино. Эти, и только эти, три условия принадлежат к божественному установлению Евхаристии и содержатся во вселенском предании. Все остальное, как-то: особые свойства хлеба и вина, время дня, сопровождающие молитвы и священнодействия и т. п., – все это принадлежит к несущественным, второстепенным формам и условиям таинства, которые не заключают в себе ничего божественного и вселенского, которые, определяясь частным преданием той или другой церкви, могут свободно изменяться и имеют лишь относительную обязательность. Поэтому, хотя в восточной части Церкви издревле употреблялся для Евхаристии квасной хлеб, но пока вселенское значение Церкви и ее таинств ясно понималось восточными христианами, никому не приходило в голову свой частный обычай возводить на степень общеобязательного требования, и когда в западных Церквах установился противоположный обычай употреблять для Евхаристии пресный хлеб, то это никого не соблазняло на Востоке и нисколько не мешало полному общению с Западом. Но с развитием византизма взгляды изменились, и в XI-м веке спор об опресноках становится главным поводом к разделению церквей. Случайная подробность обряда принимается за существенное условие таинства, и особенностям местного обычая приписывается общеобязательность вселенского предания.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Великий спор и христианская политика"
Книги похожие на "Великий спор и христианская политика" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Владимир Соловьев - Великий спор и христианская политика"
Отзывы читателей о книге "Великий спор и христианская политика", комментарии и мнения людей о произведении.