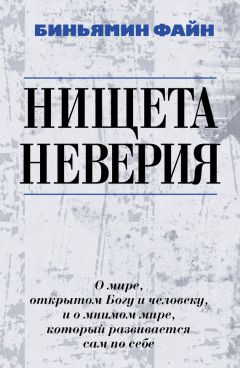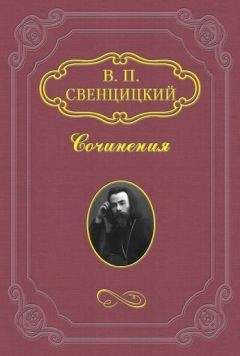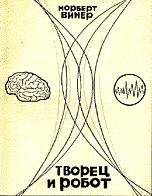Иван Ильин - Основы христианской культуры
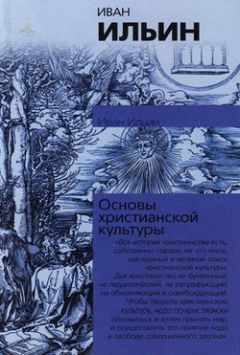
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Основы христианской культуры"
Описание и краткое содержание "Основы христианской культуры" читать бесплатно онлайн.
Переживший ужасы большевистского зла, И. Ильин старается постигнуть идею зла и обосновать борьбу со злом в своей книге «О сопротивлении злу силой», причем он приходит к очень резкому выводу: «Физическое пресечение и понуждение могут быть прямой религиозной и патриотической обязанностью человека, и тогда он не вправе от них уклониться. Исполнение этой обязанности ведет его в качестве участника в великий исторический бой между слугами Божьими и силами ада».
Эпиграфом к книге служит евангельский текст об изгнании Христом торговцев из храма: разгневанный бичующий Христос, по-видимому, наиболее близок сердцу автора. Это одностороннее, сгущенно-грозное понимание христианства представляет собой, конечно, такой же сектантский уклон, как и распространенное «розовое» и многие другие уклоны: но кто может по праву утверждать, что он видит само ослепительно яркое солнце христианства, а не только один из его аспектов?
Тон делает не только музыку, но и философию и публицистику: тон всех писаний и в особенности речей И. А. Ильина, неизменно бодрый и бодрящий, зовущий не только на бой со злом, но и на строительство новой, лучшей жизни. Источник этого тона – неподдельная любовь к родному народу и глубокая религиозная вера в жизнь.
Понятно, что такому человеку естественно взывать к моральному самосовершенствованию и видеть в нем духовную панацею и неестественно воспитывать других и бороться с общественно-объективирующимся злом. В момент семейной, национальной, общечеловеческой катастрофы, вызванной победоносным взрывом зла, он будет по-прежнему опасливо рефлектировать на свою внутреннюю моральную безошибочность и праведность и приглашать других к такому же «непротивлению», напоминая тех, кто в эпоху чумы предоставлял заразе распространяться и заботился только о своей личной незараженности. Наконец, вся эта постановка вопроса ведет к тому, что в учении Толстого моральная верность душевного состояния оказывается высшей, самодовлеющей целью, главным и единственно достойным пунктом человеческих усилий и стремлений. Если для религиозного человека «моральность» есть условие или ступень, ведущая к богови́дению и богоуподоблению, если для ученого «моральность» есть экзистенц-минимум истинного познания, если для политика-патриота «моральность» обозначает качество души, созревшей к властвующему служению, – то здесь «моральность» есть последняя и ничему высшему не служащая самоценность. Достигший ее – достиг чего-то последнего и безусловного, того, в чем смысл человеческой жизни и чем невозможно пожертвовать: ибо оно выше всего и нет ничего высшего. Все подчиняется моральности, все оценивается ее критерием, она всему цель, для нее все средство. Все можно и должно отдать за нее и ради нее, но жертвовать ею, хотя бы частично, хотя бы на момент, – бессмысленно, противоестественно, кощунственно. Достигнув своего сокровища, скупой рыцарь владеет мирами и не может отдать его за что-нибудь другое, пока не перестанет быть скупым рыцарем…
Именно поэтому моралист такого уклада, если только он последователен, – неизбежно будет обречен в жизни на чудовищные положения. Ибо, в самом деле, что ответит он себе и Богу, если, присутствуя на изнасиловании ребенка озверелою толпою и располагая оружием, он предпочтет уговаривать злодеев, взывая к очевидности и любви, и потом, предоставив злодейству свершиться, останется жить с сознанием своей моральной безукоризненности? Или он здесь допустит «исключение»? Но во имя чего же? Во имя чего он пожертвует своей праведностью и совершит «зло», воспротивившись «насилием»? Если это высшее доступно ему и признается им, то его необходимо формулировать… А если оно будет формулировано, то что же останется от всей пресловутой доктрины «непротивления»?
10. О СЕНТИМЕНТАЛЬНОСТИ И НАСЛАЖДЕНИИ
Еще более глубокие и определяющие связи соединяют доктрину «непротивления» с содержательными корнями всего учения. Ибо идея «любви», выношенная и выдвинутая Л. Н. Толстым, вносит от себя такое содержание во все его основоположения и выводы, которое предопределяет собою неверность почти всех его вопросов и ответов.
«Любовь», воспеваемая его учением, есть, по существу своему, чувство жалостливого сострадания, которое может относиться к какому-нибудь одному определенному существу, но может захватывать душу и безотносительно, погружая ее в состояние беспредметной умиленности и размягченности. Именно такое чувство, укоренясь в душе, захватывая ее глубочайшее чувствилище и определяя собою направление и ритм ее жизни, несет ей целый ряд опасностей и соблазнов.
Так, прежде всего это чувство само по себе дает душе такое наслаждение, о полноте и возможной остроте которого знают только те, кто его пережил.[93] Испытывать его – есть благо совсем не в том только смысле, что оно морально ценно и что его следует испытывать, но и в том смысле, что оно само по себе дает душе величайшее удовлетворение, услаждая ее и насыщая ее этою сладостью. В этом состоянии душа переживает себя блаженно-единою, целостно охваченною и растворенною; в ней все как бы течет и струится, звучит и светится, поет и сияет; она обретает в себе самой источник ни в чем другом не нуждающегося счастья, и притом такой источник, которого не может отнять у нее чужой произвол и по сравнению с которым другие источники кажутся скудными, слабыми и ненадежными. Но именно эта непосредственная доступность ключа к наслаждению, его самодовлеющий характер, интенсивность даруемого им удовлетворения и особенно способность его играть и петь в беспредметном умилении[94] – могут незаметно приучить душу к духовно неоправданному и духовно малозначительному самоуслаждению, к сосредоточенности на этом самоуслаждении и на его добывании. Это «благо может приковать к себе душу не силою своего духовного превосходства и совершенства, а силою своего услаждающего блаженства,[95] и, далее, именно постольку оно может повести к охлаждению и инстинктивному отвращению ото всего, что не есть это благо или что не ведет к нему. Это может породить практику и теорию морального наслажденчества («гедонизма»), искажающую и силу очевидности, и миросозерцание, и основы личного характера.
Моральный гедонист[96] инстинктивно тяготеет ко всему, что вызывает в нем состояние блаженного умиления, и столь же инстинктивно отвращается ото всего, что грозит нарушить, оборвать и погасить это состояние. Его духовное око начинает искать во всем умиляющего и быстро отвертывается или закрывается, как только в поле его зрения появляется что-либо возмущающее или отвратительное. Раздражение, ожесточение, злоба – тягостны ему и в нем самом, как чувства, противоположные искомому блаженству, и в других, как колеблющие его собственное блаженное равновесие и самочувствие; поэтому он как бы из инстинкта самосохранения приучается отвертываться от зла и предаваться своему внутреннему благу. Постепенно его духовное око приспособляется и научается видеть во всем «умилительное» и не видеть того, что подлинно отвратительно. Тягостный, мучительный, изнуряющий душу опыт подлинного зла совсем отстраняется им и отводится; он не хочет этого опыта, не позволяет ему состояться в своей душе и вследствие этого постепенно начинает вообще «не верить во зло» и в его возможность. Осознав этот прием свой, он формулирует его в виде правила, рекомендующего отвертываться от зла, недосматривать, забывать.[97] И согласно этому правилу все воспринимаемое им начинает систематически процеживаться, перетолковываться, искажаться. Моральный гедонист не видит того, что ему реально дается, и видит не то, что подлинно есть. Он ценит в опыте не объективную верность и точность, а соответствие своим субъективным настроениям и выросшим из них фантазиям. Он приучается фантазировать в опыте и испытывать свои фантазии как реальность:[98] его миросозерцание приобретает черты идиллической противопредметности. Понятно, как отзывается это все на его жизнеучительстве, особенно когда он касается вопроса о «сопротивлении злу» «насилием»… Только по недоразумению можно видеть в нем учителя и вождя.
Понятно также, что моральный гедонизм повреждает не только очевидность, но и характер человека. Состояние умиленности и растворенности не только не включает в себя волю, но отводит ее как начало, с одной стороны, ненужное, а с другой стороны, напрягающее, сковывающее и потому мешающее растворению и текучести. Ибо воля не растворяет душу, а собирает ее и сосредоточивает; она не погружает ее в безгранное, беспредельное течение, а творит грань и форму, она не беспредметна, а определительна и определенна; она не может говорить всему – блаженно приемлющее «да», но нуждается и в твердом, обоснованном отрицании. Поэтому гедонистическое умиление, охватывая душу и завладевая ее центральным чувствилищем, вовлекает ее в некое безволие, выражающееся то в безразличии, то в прямой враждебности ко всем волевым порывам и заданиям. «Любовь», исповедуемая и проповедуемая умиленными моралистами, оказывается состоянием безвольным или «пассивно-волевым»: эта «любовь» не укрепляет характер сосредоточением сил и выковыванием духовного центра личности, а постепенно ослабляет его; она не формулирует личный дух, а услаждает душу беспредельностью и неопределенностью; она отучает ее от стойкого отрицания и тянет ее к всеприемлющему и всепримиряющему нейтралитету. Такая безвольная любовь не есть уже активная эмоция, ибо эмоция не враждебна воле, а нуждается в ней и ищет сближения с ней; но это и не пассивный аффект, ибо аффект по самой глубине своей не может быть беспредметен, подобно тому как рана невозможна без ранящей стрелы. Безвольная любовь гедонистического моралиста есть скорее «настроение», легко уживающееся и с безвольностью, и с беспредметностью. В качестве безвольного настроения эта любовь – сентиментальна, а в качестве беспредметного настроения эта любовь – бесцельна: она не несет в себе ни духовного задания, ни духовной ответственности. Это есть чувствование, насыщающееся собою; оно есть не начало, а конец, не исход, а завершение, не ступень, а достижение; это есть сладостная самоценность или самоценное наслаждение; и тот, кто пребывает в нем и не позволяет ничему внешнему вывести себя из него, – тот объявляется правым. Может ли такой безвольный и сентиментальный характер, сознательно угашающий в себе начало героизма, сладостно тонущий в безграничном и беспредметном настроении и при этом сознательно утверждающий свою правоту как единственную и образцовую для всех людей, – может ли он поставить и разрешить героическую проблему сопротивления злу? И не ясно ли, что, «решая» эту проблему, он создаст скорее соблазн для безвольных и переутомленных душ, чем укрепление и умудрение для стоящего на верном пути человека?
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Основы христианской культуры"
Книги похожие на "Основы христианской культуры" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Иван Ильин - Основы христианской культуры"
Отзывы читателей о книге "Основы христианской культуры", комментарии и мнения людей о произведении.